автордың кітабын онлайн тегін оқу Книга об американской поэзии


Вступление
Душа любимых изберет... [1]
Стихи, если они настоящие, воспринимаются сразу — как говорится, кожей. Наши непосредственные, телесные реакции опережают рациональные и логические. А. Э. Хаусман в своей лекции 1933 года «Имя и природа поэзии» признавался: «Когда я по утрам бреюсь, я избегаю вспоминать свои любимые стихи: кожа покрывается мурашками, и я обязательно обрежусь» [2]. Э. Дикинсон писала: «Когда я читаю книгу и все мое тело так холодеет, что никакой огонь не может меня согреть, я знаю — это поэзия».
Такова первая реакция. Перечитывая, мы каждый раз открываем для себя новое, отчего понимание наше становится глубже и удовольствие от стихов — полнее.
Для переводчика такое перечитывание — вещь сама собой разумеющаяся. И часто при этом возникает желание поделиться открывшимися смыслами и разными попутными мыслями. Так переводчик невольно становится комментатором и критиком.
Эта книга, посвященная моим любимым американским поэтам, составлена из написанных в разное время переводческих эссе. Одновременно это и книга переводов: стихи и проза в ней идут слоями, как в пироге.
Мне кажется, слоистые книги не в пример лучше, чем однослойные — состоящие, к примеру, только из стихов. Стихи без разговоров — как яблоки на рыночном прилавке, им не хватает зеленой листвы, веток, игры света. А разговоры без стихов — как сад без плодов, в котором ничего не уродилось; тоска смотреть на одни голые ветки.
Три главных поэта, о которых пойдет речь в этой книге, такие разные, что более разных и вообразить трудно. Эмили Дикинсон, провинциальная отшельница, так никогда и не увидевшая своих стихов в печати; прославленный Роберт Фрост, лауреат четырех Пулитцеровских премий; и Уоллес Стивенс, великий маг и волшебник, всю жизнь скрывавшийся под маской скучного страхового служащего, — что между ними общего? А общее должно быть, раз я в них так откровенно и надолго влюбился.
Раньше всего их можно сблизить географически: все эти три поэта из Новой Англии. Так называют регион на северо-востоке США, состоящий из шести штатов: Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Вермонт, Род-Айленд и Мэн. За исключением Мэна, шестого, самого северного из них, они скромны по размерам: остальные пять, взятые вместе, вместе едва достигают размера среднего американского штата. Это самый старый регион США. Тут возникли первые поселения европейских колонистов. Сюда прибыли «отцы-пилигримы», основавшие колонию Плимут в 1620 году. И здесь же через сто пятьдесят лет началось движение за независимость американских колоний. Это оплот традиции и культуры, край старейших университетов, один из главных центров науки и образования США.
Три «моих» поэта разделили между собой этот край следующим образом: Эмили Дикинсон жила в городке Амхерст (Массачусетс), Уоллес Стивенс — в Хартфорде (Коннектикут), а за Робертом Фростом числятся сразу два штата — Нью-Гемпшир и Вермонт. Что касается штата Мэн, то это родина популярнейшего в XIX веке поэта Генри Лонгфелло, творчества которого в этой книге мы еще коснемся.
Вплоть до эпохи романтизма американская поэзия была лишь поэзией колониальной окраины Британской империи, многого от нее не ожидали. Англо-американская война и основание Соединенных Штатов пробудили по другую сторону Атлантики новый интерес к бывшей провинции. Но еще долго в сознании европейцев Америка оставалась варварской страной, где мужественные, но невежественные колонисты сражаются с враждебной природой и дикими аборигенами. В 1819 году, при получении дурных известий от брата, иммигрировавшего в Америку, Джон Китс, очень за него тревожившийся, писал о «ненавистной стране»,
где пастбищ грубая трава
Не впрок худым, измученным быкам;
Где аромата не дано цветам,
А птицам нежных трелей; где густой
И дикий лес кромешной темнотой
Дриаду напугал бы; где сама
Природа, кажется, сошла с ума.
Здесь мы находим важнейший и весьма болезненный упрек американской культуре: это страна без корней, у нее нет своей многовековой истории, своей мифологии, своей античности. Тех наяд и дриад, которые видит европейский поэт в родных лесах и водах, здесь не водится.
Восполнить отсутствие у американцев своих Гомера и Вергилия взялся Генри Лонгфелло. Его «Песнь о Гайавате», написанная на основе индейских легенд, была попыткой создать американский эпос; благодаря переводу Ивана Бунина она сделалась популярной и в России. Но мало кто знает, что ее прилипчивая стиховая форма (которую так легко пародировать): «Если спросите, откуда / Эти сказки и легенды / С их лесным благоуханьем, / Влажной свежестью долины…» и так далее — заимствована из финской эпической поэмы «Калевала», и это не случайно: Лонгфелло многие годы прожил в Европе, где среди прочих языков изучил и финский.
Генри Лонгфелло и его слава по обе стороны Атлантики, Эдгар По и то огромное влияние, которое он оказал на Бодлера и через него на европейский символизм, и, наконец, поэтическая реформа Уолта Уитмена — вот три фактора, выведшие американскую поэзию на мировую орбиту.
В конце концов национальная американская мифология сложилась сама собой. В нее вошли и прибытие корабля «Мейфлауэр» в Новую Англию, и «отцы-основатели» США, и Гражданская война между Севером и Югом, и золотая лихорадка в Калифорнии, и много чего еще… Но, может быть, более всего ее созданию способствовал Голливуд, великий творец мифов и легенд — в том числе знаменитого мифа о ковбоях. История американского кино и сама по себе стала легендой со своими незабываемыми героями, — как, прочем, стала легендой и история американского джаза.
В американской поэзии немало звездных имен. Но любовь — дело особое, с ней не поспоришь. Я преклоняюсь перед гением Эдгара По; меня впечатляет лирический напор Уолта Уитмена; я восхищаюсь стихами Уистена Одена, впитавшего в себя столько эпох и жанров поэзии — от эклог Вергилия до английского нонсенса. Но самыми моими любимыми по-прежнему остаются три поэта: Дикинсон, Фрост и Стивенс.
Наверное, это выбор европейца. Фрост с его старомодными размерами и рифмами — очевидная антитеза Уитмену, самому американскому из американских поэтов. Рядом Стивенс со своей иронией и подозрительным индивидуализмом, столь явно выраженным в стихотворении «Соединенные Дамы Америки»:
Толпа мертва. Велика она или мала,
Не имеет значения. Толпа не превысит
Единственного человека.
И наконец, Эмили Дикинсон. Ее воскресение — подлинное чудо. Казалось бы, кому могли понадобиться в наше время стихи безвестной старой девы, написанные при царе Горохе? Но получилось так, как она сама предсказала:
Мы вырастаем из любви
И прячем вещь в комод —
Пока на бабушкин фасон
Вновь мода не придет.
Пытаясь понять, что общего между такими разными поэтами, я прежде всего думаю об их связи с европейской традицией. Доказательств немало.
Стихи Роберта Фроста долго не находили никакого отклика на родине, пока в возрасте 35 лет он не переехал с семьей в Англию, где обрел друзей и поддержку, — и возвратился через три года в США известным поэтом с двумя сборниками стихов.
Уоллес Стивенс в своем понимании поэзии во многом исходил из опыта новых французских поэтов, от Бодлера до Валери. Поль Лафорг, умерший от чахотки в холодной мансарде, и его насмешливая муза стали камертоном для многих стихов проживавшего в уютном особняке топ-менеджера Харфордской страховой компании.
А Эмили Дикинсон? Разве она не говорила: «Зачем нужны другие поэты, если есть Шекспир?» В комнате Эмили висел портрет ее обожаемой Элизабет Баррет Браунинг — «английской флорентийки» — и Томаса Карлейля.
Да, европеизм можно считать объединяющей, но не главной чертой. Еще важнее — тон стихов и предполагаемый собеседник. Кажется, Александр Блок сказал об одной поэтессе: «Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом».
Сходным образом бывают поэты, которые пишут как бы для публики, для внимающей им аудитории, какая бы она ни была: большая или малая, будь то компания гостей или все человечество.
А есть другие, которые представляют своего читателя в единственном числе, чья поэзия — будь то рассказ, сердечное признание или шутливая болтовня — всегда разговор наедине.
И хорошо, если это будет одинокая ночь, а из звуков — только шорох переворачиваемой страницы. Как в стихотворении Уоллеса Стивенса:
Ночь летняя, и книга, и читатель,
Склоняющийся за полночь над книгой.
[2] Housman A. E. The Name and Nature of Poetry and Other Selected Prose. N. Y.: Cambridge University Press, 1961. Р. 193.
[1] Из стихотворения Эмили Дикинсон «The soul will find its own society» (перевод О. Седаковой).
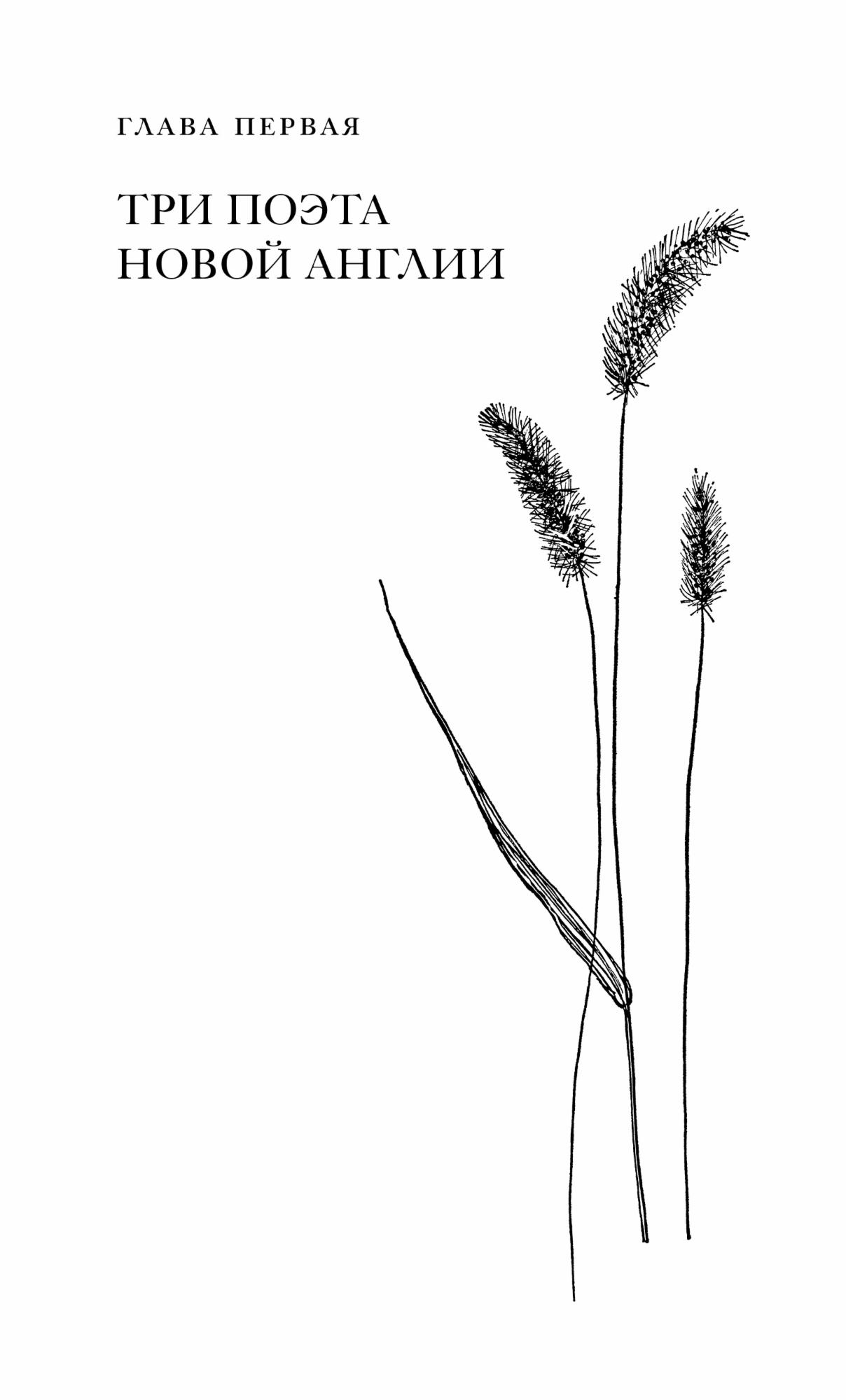

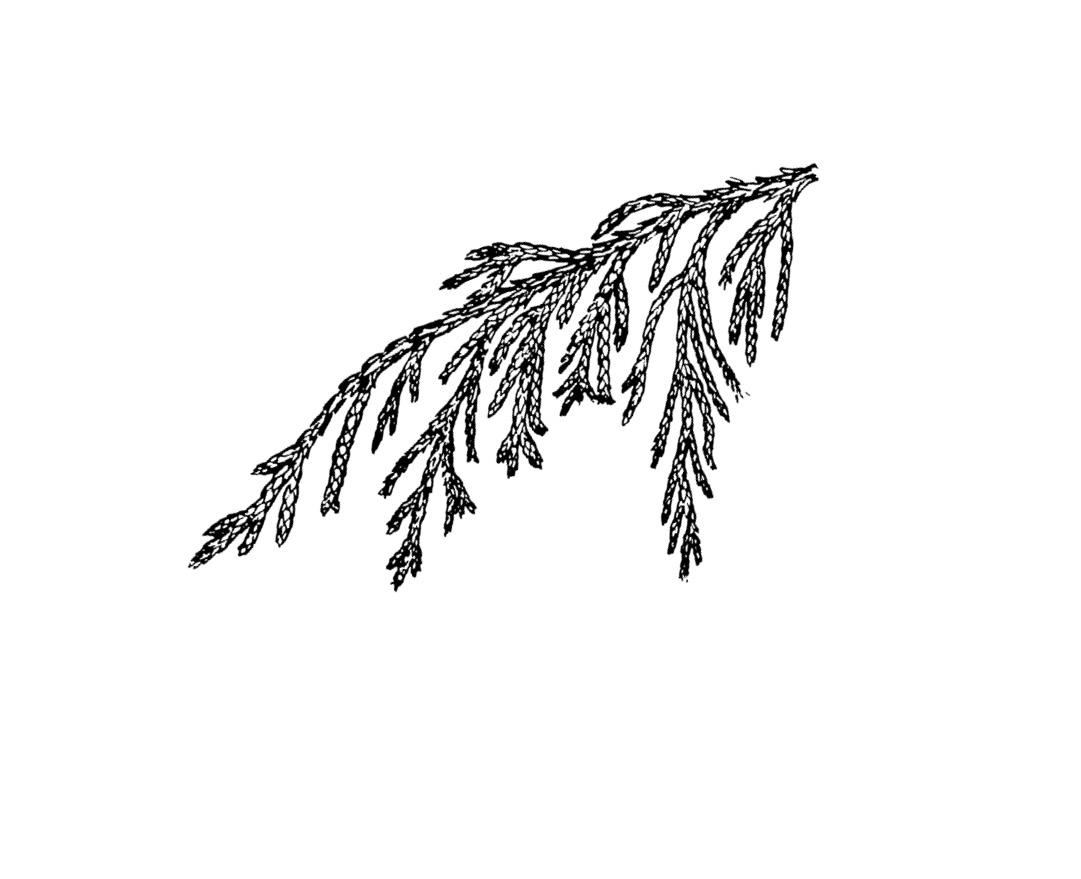
Судьба и стихи Эмили Дикинсон
Никто меня не звал на Бал…
Эмили Дикинсон
Судьба Эмили Дикинсон похожа на сказку о Золушке. Это история скромной, никому не известной девушки, в финале сделавшейся принцессой: любимый сюжет литературы и кино, мгновенно доходящий до сердца простого американца. Несомненно, в любви широкого читателя к Эмили (поэтессе совсем не простой) «повинны» не только ее стихи, но и этот узнаваемый сюжет, этот архетип, подсознательно влияющий на наше восприятие.
Даже в единственном достоверном изображении Эмили Дикинсон (копии с дагеротипа 1847 года) мы склонны увидеть эти милые нам черты Золушки — скромность, искренность, доброту и, сверх того, ту самую прелесть живого ума, которая составляет самую сердцевину этого характера.
Жизнь не была к ней справедлива. Ни путешествий, ни замужества, ни своей семьи. Уединенная жизнь в маленьком городке, из которого она практически никогда никуда не уезжала. При необычайном поэтическом даре — полная безвестность; а ведь Эмили знала себе цену — легко ли было такое вынести? Как говорила добрая фея в сказке Евгения Шварца: «Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь».
Золушкина крёстная, по профессии волшебница, в конце концов превратила для нее тыкву в карету и крысу в кучера. А для реальной Эмили и бал, и прекрасный принц случились уже посмертно, за рамками земной жизни…
Сто пятьдесят лет тому назад произошло, казалось бы, малозаметное событие, которое стало одной из самых памятных вех в истории американской литературы. В апреле 1862 года журналист Томас Хиггинсон из Бостона получил письмо от неизвестной ему читательницы. К письму были приложены четыре стихотворения, а начиналось оно так:
МИСТЕР ХИГГИНСОН, — если только Вы не слишком заняты, скажите, есть ли жизнь в моих стихах?
Мой ум слишком близок к себе самому, он не может ясно видеть, а спросить мне некого.
Если Вы сочтете, что они дышат, и найдете время написать мне, ответом будет моя живая благодарность.
Т. Хиггинсон комментирует: «На конверте стояла почтовая печать „Амхерст“, а само письмо было написано таким странным почерком, как будто автор учился писать, изучая окаменелые следы, оставленные доисторическими птицами в музее Амхерстского колледжа. Тем не менее письмо ни в коей мере не было неграмотным, наоборот — оно несло отпечаток утонченного, странного и оригинального ума». Странным было многое — и почти полное отсутствие пунктуации (за исключением тире), и написание существительных с большой буквы, как в немецком или в староанглийском языках. Но удивительнее всего, что письмо не имело подписи, зато в конверт был вложен еще один маленький конвертик, и вот в этом конвертике находилось имя отправительницы, написанное почему-то карандашом.
Такова была первая попытка выйти к читателям, может быть, лучшей из поэтесс, когда-либо писавших на языке Шекспира, — Эмили Дикинсон.
Обратите внимание: автор не спрашивает, хорошие это стихи или плохие, есть у меня способности или нет и так далее, — как обычно спрашивают начинающие поэты. Вопрос нацелен в самую суть: живые стихи или мертвые? Быть живой — главное свойство настоящей, «долгоиграющей» поэзии. Великий поэт не так уж сильно выделяется среди своих современников; наверняка среди них есть не менее образованные, умные, оригинальные и обладающие прекрасными душевными качествами люди. Разница лишь в том, что они не умеют превратить это в стихи, перелить себя в стихи. Их рука и перо не могут, соединившись, стать свехпроводником, соединяющим душу пишущего и бумагу. Только поэт обладает этим загадочным свойством — одушевлять столбики букв и наделять их самостоятельной жизнью — так, чтобы они могли существовать и беседовать с нами многие десятилетия после того, как навсегда замрет написавшая их рука.
У колумбийского писателя Николаса Гомеса Дáвилы есть замечательная фраза: «Подлинные произведения искусства взрываются в стороне от своего времени, как снаряды, оставшиеся на поле боя». Это как будто сказано про Эмили Дикинсон. Только разрыв этой бомбы был не разрушительным, а созидательным. Ныне город, в котором она жила, в сознании американцев сделался родиной «затворницы из Амхерста», а ее дом-музей стал местом паломничества сотен тысяч туристов, ежегодно пополняющих городскую казну. Стихи Дикинсон проходят в школах, о ней пишут ученые монографии и книги для детей.
Биографическая канва жизни поэтессы проста и известна во всех подробностях. Семья Дикинсон занимала почтенное положение в своем маленьком городке в штате Массачусетс. Дед Эмили был одним из основателей Амхерстского колледжа, отец служил в нем казначеем, одновременно занимаясь адвокатской практикой и политической деятельностью — однажды он даже избирался в палату представителей Конгресса США. Выросшие дети не разлетелись из гнезда: старший брат Остин, женившись, остался жить в соседнем доме, младшая сестра Лавиния, как и Эмили, не вышла замуж.
Главным событием молодости Эмили стала дружба с молодым адвокатом Бенджамином Ньютоном, проходившим практику в конторе ее отца. Он руководил ее чтением, учил восхищаться великой поэзией, понимать красоту и величие мира. В 1850 году он уехал из Амхерста, а три года спустя умер. Много позднее Дикинсон вспоминала: «Когда я была еще совсем девочкой, у меня был друг, учивший меня Бессмертию, — но он отважился подойти к нему слишком близко — и уже не вернулся».
В разлуке с Ньютоном у Эмили созрела мысль посвятить свою жизнь поэзии. Но после смерти старшего друга источник ее стихов пересох. Новое дыхание пришло в конце 1850-х годов, в разгар ее эпистолярного романа с женатым священником из Филадельфии Чарльзом Уодсвортом. Была ли это любовь, душевная привязанность или мистическая близость, ясно одно — это было чувство исключительной интенсивности. Оно породило настоящий творческий взрыв: подсчитано, что только за три года, с 1862 по 1864-й, ею было написано более семисот стихотворений.
В том же 1862 году случилось так, что Эмили Дикинсон завязала переписку с известным в Новой Англии литератором Томасом Хиггинсоном, ставшим на многие годы ее постоянным корреспондентом и «поэтическим наставником», а также издателем первого ее сборника стихов — но уже после смерти поэтессы.
Я взял слова «поэтический наставник» в кавычки, потому что их отношения были своеобразны: в каждом письме Эмили просила у Хиггинсона оценки и совета, называла себя смиренной ученицей, но ни разу не воспользовалась его советами и продолжала все делать по-своему. А он указывал на просчеты и огрехи в ее стихах — неправильные ритмы и рифмы, странную грамматику — все, что было индивидуальной, во многом новаторской манерой Дикинсон и что сумели адекватно оценить лишь критики XX века.
Литературное наследие Эмили Дикинсон — около тысячи восьмисот стихотворений, бóльшая часть которых была найдена в комоде после ее смерти, и три тома писем, многие из которых не менее замечательны, чем ее стихи. Особенно интересны первые письма Томасу Хиггинсону, в которых она сообщает некоторые штрихи к своему портрету, чтобы собеседник мог ее себе представить. Вот некоторые из этих штрихов.
Внешность:
«Я не вышла ростом, как мне кажется… Я маленькая, как птичка-крапивник, и волосы у меня грубые, как колючки на каштане, а глаза — как вишни на дне бокала, из которого гость выпил коктейль. Ну как?» (Когда через восемь лет Т. Хиггинсон заехал к ней в гости, он увидел перед собой «маленькую некрасивую женщину», — если верить тому, что он писал в письме к жене, но ведь благоразумный муж и должен был написать «некрасивую» — во избежание семейных осложнений.)
О друзьях и занятиях:
«Вы спрашиваете о моих товарищах. Холмы, сэр, и Закаты, и пес — с меня ростом — которого купил мне отец… Думаю, Карло понравился бы Вам — он храбрый и глупый… Когда я маленькой девочкой часто ходила в лес, мне говорили, что меня может укусить змея, что я могу сорвать ядовитый цветок или что гномы могут меня похитить, но я продолжала ходить в лес и не встречала там никого, кроме ангелов, которые меня стеснялись больше, чем я их…»
О своих стихах:
«Я не писала стихов — разве что одно или два до этой зимы, сэр. Я испытывала страх — начиная с сентября — и не могла никому рассказать об этом — и я пою, как мальчишка поет на кладбище, потому что боюсь…
Умирая, мой Учитель говорил, что хотел бы дожить до того времени, когда я стану поэтом, но Смерть оказалась сильнее, я не смогла совладать с ней. И когда много позже неожиданное освещение в саду или новый звук в шуме ветра вдруг захватывали мое внимание, меня сковывал паралич — только стихи освобождали от него…
Я счастлива быть Вашей ученицей и заслужу доброту, за которую пока не могу отплатить… Будете ли Вы указывать на мои ошибки — честно, как самому себе? Я не умру — только поморщусь от боли. К хирургу обращаются не за тем, чтобы он похвалил вашу кость, а чтобы вправил ее… Ведь я всего лишь кенгуру в чертогах Красоты…» [3]
До двадцати пяти лет Эмили была просто культурной барышней, ничем особенно не выделявшейся из своего круга; но чем глубже она погружалась в писание стихов, тем больше ее внутренний мир вытеснял внешний. С 1864 года она уже не покидала Амхерст, с 1870-х годов практически не выходила из дома. Одной из причин была болезненная стеснительность, следствие обостренной чувствительности, — она воспринимала все так остро, что прямой контакт с внешним миром ранил ее. Другой причиной было сознательное самоограничение:
Кто так не жаждал — тот не знал
Безумия глубин —
Пир воздержания затмит
Пиры обычных вин —
Когда желанное у губ —
Но капли не испей —
Чтоб грубо не расторгла явь
Сверкающих цепей —
Да и к чему экипажи и поезда, если воображение может гораздо больше?
Страницы книги — паруса,
Влекущие фрегат,
Стихи быстрее скакуна
В любую даль умчат…
Так постепенно она превращалась для соседей и знакомых в «эту странную мисс Дикинсон», — впрочем, неизменно доброжелательную к людям, но предпочитавшую жизнь добровольной затворницы. Нет, она не разорвала связей с миром, но они все более принимали эпистолярный характер. В числе ее друзей по переписке были ее кузины Луиза и Франсис Норкросс, мистер Холланд, редактор газеты «Спрингфилд рипабликен», и его жена Элизабет Холланд, соредактор той же газеты, блестящий журналист Сэмюэл Боулз, упомянутые уже Чарльз Уодсворт и Томас Хиггинсон, жена преподавателя Амхерстского колледжа миссис Мейбл Тодд, судья Отис Лорд (ее последняя любовь), а также жена брата Сюзен, жившая в соседнем доме, но постоянно получавшая от Эмили записки и стихи.
Так что не нужно думать, что Эмили писала только «в стол», у нее был целый круг друзей, которым она регулярно, начиная с 1860-х годов, посылала свои стихотворения, некоторые — сразу по нескольким адресам.
Здесь возникает неожиданная параллель с Джоном Донном, основоположником «метафизической школы», который ведь тоже писал для узкого круга друзей и знакомых; его стихи были изданы через два года после его смерти.
Эмили Дикинсон не читала Донна (в то время почти забытого), она знала и любила лишь его позднего последователя Генри Воэна, тем не менее родство ее поэзии с «метафизической школой» прослеживается довольно четко. Например, склонность к неожиданным сравнениям и привлечение в стихи материала естественных наук. У Донна это астрономия, география, медицина, алхимия, физика и нумерология. В стихах Дикинсон сходным образом мы встречаем и «электрический покой» (физика), и «карбонаты» (химия), и «экспоненту дней» (математика), и специальные термины из астрономии и ботаники. Еще более важно, что у Дикинсон, как и у Донна, внимание сосредоточено на последних вопросах бытия — душа, смерть, бессмертие. Ее стихи о смерти по своему числу и концентрации могут соперничать с погребальными элегиями и «священными сонетами» поэта-священника.
В ряде стихов Эмили Дикинсон, так же как у испанского поэта XVII века Хуана де ла Круса, происходит мистическое слияние Души в образе Невесты с ее возлюбленным Женихом. Воспринимать их можно в двух планах — как выражение земной любви и любви небесной, обращенной к Богу.
Титул божественный — мой!
Без аналоя — Жена!
Императрица Голгофы —
Вот как я наречена!
Эти стихи 1862 года — и некоторые другие «новобрачные стихи» того же периода — обычно связывают с Чарльзом Уодсвортом, к которому Дикинсон испытывала нежную преданность. Но адресат здесь не важен, важна сама страсть — безудержная эманация любви, исходящая из одинокого женского сердца.
Что-то в этом накале чувства — всепоглощающего и затаенного, скованного «сверкающею цепью» самоограничения, — есть отчетливо монашеское. Кажется, примерно в середине 1860-х годов Дикинсон окончательно избрала добровольную схиму и стала носить простое белое платье — наряд, сделавшийся неразлучным с образом затворницы из Амхерста.
А было это — видит Бог —
Торжественное дело —
Стать непорочной тайною —
Стать Женщиною в Белом —
Святое дело — бросить жизнь
В бездонную пурпурность
И ждать — почти что Вечность — ждать —
Чтобы она — вернулась —
Пурпурный цвет у Дикинсон — цвет триумфа и славы. Она бесконечно сомневалась в себе, самоуничижалась, и все-таки сознание своей поэтической правоты не оставляло поэтессу. Недаром в ее предсмертной записке стоит лишь два слова: «Called back».
«Отозвана».
Если отозвана, значит была призвана — значит верила в свое призвание, послание. В то, что — говоря словами Марины Цветаевой — «стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед».
Дикинсон нередко сравнивают с Цветаевой — по увлекающемуся складу характера — и по внешнему виду ее стихов, разорванных многочисленными тире. Сходство действительно есть. В письмах — эмоциональных, афористичных, порой загадочно-туманных — оно, пожалуй, выражено отчетливей. Но стихи Дикинсон — не такие и не про то. Разве что похоже обилие сверхграмматических тире, которые, как и у Цветаевой, служат Дикинсон знаками интонации.
Между прочим, использование тире в конце предложений вместо точки или многоточия — и вообще пренебрежение к орфографии — соответствует английской эпистолярной традиции XIX века. Если вместо тире ставить точку или многоточие, эффект будет совсем другой. Дело в том, что точка, как резко нажатый тормоз, останавливает течение речи; после нее разгон стиха следует начинать заново. Другое дело — тире. Его функция двойная: тире одновременно разъединяет и соединяет. Делая необходимую паузу, оно в то же время сохраняет инерцию речи, ведет голос вверх и обещает продолжение.
Так что пунктуационные вольности в переписке поэтов и в их рукописях должны были подчеркнуть водораздел между спонтанностью вдохновения — и прозаичностью дальнейшей судьбы их творений, попадающих в руки издателей.
Итак, мы вправе сделать вывод, что пунктуационная манера Эмили Дикинсон и в письмах, и в стихах предполагает, с одной стороны, дружеский разговор с читателем, а с другой — является своеобразной музыкальной партитурой, запечатлевшей авторский голос, его смысловые паузы, особый способ подачи звука.
Эмили Дикинсон не была религиозна в обычном смысле слова — она рано перестала ходить в церковь, оспаривала церковные догмы, — и тем не менее многие из ее главных идей взяты из Библии, из христианской догматики. Это идеи избранничества, бессмертия и жертвы. Она писала:
Далеко Господь уводит
Своих лучших чад —
Чаще — сквозь терновник жгучий,
Чем цветущий сад.
Не рукой — драконьим когтем —
От огней земных —
В дальний, милый край уводит
Избранных своих.
«Кто говорит: Творчество, говорит: Жертва». Так сформулировал Поль Валери неколебимый закон искусства, в котором, может быть, ключ и к судьбе Эмили Дикинсон. Она обменяла свою жизнь на поэзию, — хотя, как всякий живой человек, еще долго надеялась, что судьба возьмет не всё.
Стихи Дикинсон похожи на эпизоды символической пьесы, главные персонажи которой: Душа, Бессмертие, Пчела, Дрозд, Малиновка, Бог, Цветок, Лето, Вечность — все одинаково важные. А еще — Ветер, Звезда, Осень, Муха…
Тут вспоминается предтеча символистов Уильям Блейк, воспевший Муху и сам себя называвший «счастливой Мухой», учивший видеть мир — в песчинке и небо — в чашечке цветка. Правда, для Блейка существовал не только «мир вообще», но и конкретные Лондон, Англия, не только ангелы, но и Зло, Грех. Природа у него — Агнец и Тигр в одном лице; а у Дикинсон Природа — абсолютное благо, жизнь — абсолютное счастье, и вообще единственный враг человека — Смерть, да и то еще неизвестно, враг ли, — ведь она отворяет врата в Бессмертие.
Тут стоит сказать, что Дикинсон ничего не знала о Блейке, литературное воскрешение которого состоялось уже после ее смерти. Зато она читала Джона Китса, и отголоски его оды «Осень» слышатся в ее осенних стихах. На знаменитой формуле Китса: «Красота есть правда, правда есть красота» основано одно из самых известных стихотворений Дикинсон:
Я умерла за Красоту —
Но только в гроб легла,
Как мой сосед меня спросил —
За что я умерла.
«За Красоту», — сказала я,
Осваиваясь с тьмой —
«А я — за Правду, — он сказал, —
Мы — заодно с тобой».
Так под землей, как брат с сестрой,
Шептались я и он,
Покуда мох не тронул губ
И не укрыл имен.
По сути, в творчестве Дикинсон сплелись и продолжились несколько самых плодотворных нитей английской поэзии, в том числе и такие, о которых она вряд ли могла знать (Джон Донн, Кристофер Смарт, Уильям Блейк), но которые интуитивно угадала. В искусстве ее проводником всегда была интуиция. Она говорила Томасу Хиггинсону: «Когда я читаю книгу и все мое тело так холодеет, что никакой огонь не может меня согреть, я знаю — это поэзия. Когда я физически ощущаю, будто бы у меня сняли верхушку черепа, я знаю — это поэзия».
Если главный принцип поэзии — достижение максимального эффекта минимальными средствами, то Эмили Дикинсон, конечно, один из самых подлинных поэтов. Время не нанесло урона ее стихам. За век с лишним многие явления в литературе поблекли и обветшали, а то и начисто забылись. Но эта странная мисс Дикинсон лишь помолодела — как ангелы Сведенборга, из которых «самые старые кажутся самыми молодыми». Думается, Джон Пристли не преувеличил, сказав о ней: «Эта смесь старой девы и непослушного мальчишки в лучших своих достижениях — поэт такой силы и смелости, что по сравнению с ней мужчины, поэты ее времени, кажутся робкими и скучными».
[3] Отрывки из писем здесь и далее даются в переводе А. Гаврилова; стихи — в переводе автора статьи.

«А для души — что этот век, что тот»
(Роберт Фрост)
Отец Роберта Фроста происходил из первых поселенцев Новой Англии, да и жизнь самого поэта и стихи неразрывно связаны с этим краем, со штатами Массачусетс, Нью-Гемпшир и Вермонт; но родился Фрост на восточном побережье, в Сан-Франциско. Его отец, школьный учитель и журналист, умер, когда Роберту было одиннадцать лет, и семья переселилась в Массачусетс, поближе к родственникам, которые могли оказать ей поддержку. Здесь он окончил школу, но получить высшее образование ему не довелось, он проучился в Гарварде лишь полтора года; впрочем, этого хватило для того, чтобы спустя годы получить почетную степень доктора литературы Гарвардского и еще более чем сорока других университетов.
В двадцать лет Роберт Фрост опубликовал в газете свое первое стихотворение и женился на Элинор Уайт, школьной подруге, с которой они прожили вместе более полувека, до ее смерти в 1938 году. В молодости он перепробовал много разных работ, но дольше всего преподавал в школе, как и его отец. Дядя подарил им с Элинор ферму, и несколько лет он пытался фермерствовать, впрочем неудачно. Так что к легенде о поэте-пахаре, которая сложилась вокруг него в дальнейшем, Фрост относился с большой долей иронии. Эта скрытая ирония отразилась в написанном спустя много лет стихотворении «Девочкин огород».
У нашей соседки в деревне
Есть любимый рассказ —
Про то, как она девчонкой жила
На ферме — и как-то раз
Решила сама посадить огород
И сама собрать урожай.
Она об этом сказал отцу,
И тот ответил: «Сажай» [4].
И вот на выделенном ей участке в углу сада девочка вскопала лопатой землю, посадила кое-какие взятые у отца семена и даже сумела собрать урожай: свеклу, морковку, салат, кукурузу, горох — «всего понемножку». И этот детский опыт зарядил ее гордостью на всю жизнь:
Зато теперь, лишь свернет разговор
На брюкву или овес,
Она оживляется и говорит:
«Ну, ясно — что за вопрос!
Вот когда у меня ферма была…»
Не то чтобы учит всех, —
Но лишний раз повторить рассказ
Не почитает за грех.
Вот так и Фрост не почитал за грех поддерживать свою легенду и в стихах любил подчеркнуть знание фермерской, деревенской жизни, «being versed in country things» (по названию одного из его стихотворений).
Хотя, в сущности, какой он фермер? Гуманитарий до мозга костей, рафинированный интеллектуал, профессор, по нескольку месяцев в год преподававшим студентам поэзию, оригинальный мыслитель и знаток литературы, «зараженным классицизмом трезвым», если использовать выражение Иосифа Бродского. И это постоянно чувствуется в его стихах, сообщая им многомерность, которая ощущается в разработке самых, казалось бы, прозаических сюжетов. Вот, например, стихотворение о колодце, по-английски оно называется «For once, then, something» («Что-то было»).
Я, наверно, смешон, когда, склонившись
Над колодцем, но не умея глубже
Заглянуть, — на поверхности блестящей
Сам себя созерцаю, словно образ
Божества, на лазурном фоне неба,
В обрамлении облаков и листьев.
Не всякий заметит, что перед нами античный размер, так называемый фалекейский стих (по имени греческого поэта Фалекея, IV–III вв. до н. э.) — между прочим, любимый размер Катулла. Два анапеста и два ямба:
Будем, Лесбия, жить, любя друг друга.
Пусть ворчат старики, что нам их ропот?
За него не дадим монетки медной [5].
Этот незамысловатый размер (который англичане называют «одиннадцатисложником») почему-то казался чересчур сложным Альфреду Теннисону, который однажды попробовал его испытать: «Hard, hard, hard it is, only not to tumble, / So fantastical is the dainty meter», то есть: «Трудно, трудно, как бы не споткнуться, так причудлив этот изощренный размер». Он даже сравнивает себя с конькобежцем, скользящим по тонкому льду… А Фрост пишет фалекейским стихом так непринужденно, что на ритм не обращаешь внимания. Вот вам и пахарь!
И античный размер здесь не случаен. Ведь стихотворение развивает высказывание Демокрита о том, что истина лежит на дне глубокого колодца. Вот окончание этих стихов:
Как-то раз, долго вглядываясь в воду,
Я заметил под отраженьем четким —
Сквозь него — что-то смутное, иное,
Что сверкнуло со дна мне — и пропало.
Влага влагу прозрачную смутила,
Капля сверху упала, и дрожащей
Рябью стерло и скрыло то, что было
В глубине. Что там, истина блеснула?
Или камешек белый? Что-то было.
Человек не способен разглядеть скрытое в глубине. Заглядывая в колодец, он видит лишь поверхность воды и принимает свое отражение за Божественную истину. Не так ли у Йейтса в рефрене стихотворения «Водомерка» мысль человека обречена скользить по поверхности, как водяной жучок?
И, как водомерка над глубиной,
Скользит его мысль в молчании.
Многие ли читатели заметят, что строфы самого знаменитого стихотворения Фроста «Остановившись на опушке в снежных сумерках» представляют собой усложненные терцины, скрепленные в цепочку по такому же принципу («внахлест»), что и терцины «Божественной комедии»? И тем самым зимний лес, перед которым останавливается ездок Фроста, связывается с той самой «темной чащей» (selva oscura), с которой начинается книга Данта:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратя правый путь во тьме долины [6].
Стихотворение «Урок на сегодня», обращенное к поэту и ученому раннего Средневековья Алкуину, написано в 1941 году, в самый мрачный период мировой войны, когда и в Европе, и в Америке широко распространяются эсхатологические настроения.
Будь смутный век, в котором мы живем,
Воистину так мрачен, как о том
От мудрецов завзятых нам известно,
Я бы не стал его с налету клясть:
Мол, чтоб ему, родимому, пропасть!
Но, не сходя с насиженного кресла,
Веков с десяток отлистал бы вспять
И, наскребя латыни школьной крохи,
Рискнул бы по душам потолковать
С каким-нибудь поэтом той эпохи —
И вправду мрачной, — кто подозревал,
Что поздно родился иль слишком рано,
Что век совсем не подходящ для муз,
И все же пел Диону и Диану,
И ver aspergit terram floribus,
И старый стих латинский понемногу
К средневековой рифме подвигал
И выводил на новую дорогу.
Надо делать то дело, к которому ты призван. «А для души — что этот век, что тот»: таков вывод, который Фрост делает из своего заочного «соревнования» со средневековым поэтом. Эпоха мрачновата всегда, и справедливость в этом мире невозможна, но это повод для печали, а не для отчаяния. Он знает, что, если сосредоточиться на окружающем зле, —
мы пришли бы в ужас,
Распухли бы от сведений дурных
И никогда бы не сумели их
Переварить, от столбняка очнуться
И в образ человеческий вернуться,
А так и жили бы, разинув рот,
В духовном ступоре…
И уже непонятно, кто кого утешает: Фрост — Алкуина или Алкуин — Фроста; диспут происходит в одной отдельно взятой голове:
Ну что ж, далекий мой собрат, ну что ж!
Кончается еще тысячелетье.
Давай событье славное отметим
Ученым диспутом. Давай сравним
То темное средневековье с этим;
Чье хуже, чье кромешней — поглядим,
Померимся оружием своим
В заочном схоластическом сраженье.
Мне слышится, как ты вступаешь в пренья:
Есть гниль своя в любые времена,
Позорный мир, бесчестная война…
Нет, Фрост не предлагает зажмуриться и спрятать голову в песок. Он просто предлагает не впадать в отчаяние. Ибо «небеса на землю снизойдут» еще не скоро.
Мы чувствуем, что за стоицизмом Фроста стоит не только здоровый народный инстинкт, но и широчайший горизонт мысли, философское осмысление истории. Источником земных несчастий и страхов Фрост считает болезнь человеческого разума, который умаляет и унижает себя, признавая свою ничтожность по сравнению с внешними необоримыми силами.
Мы кажемся себе, как в окуляре,
Под взглядами враждебными светил,
Ничтожною колонией бацилл,
Кишащих на земном ничтожном шаре.
Но разве только наш удел таков?
Вы тоже были горстью червяков,
Кишащих в прахе под стопою Божьей;
Что, как ни сравнивай, — одно и то же.
И мы, и вы — ничтожный род людской.
А для кого — для Космоса иль Бога,
Я полагаю, разницы немного.
Аскет обсерваторий и святой
Затворник, в сущности, единой мукой
Томятся и единою тщетой.
Так сходятся религия с наукой.
Так что Роберт Фрост, конечно, был не таким уж простоватым поэтом-пахарем, как он был представлен советской общественности, когда в 1962 году приехал в Москву в качестве личного посланца президента Джона Кеннеди. Сверхзадачей Фроста в СССР было встретиться с Хрущевым и вовлечь его в дружбу с Америкой — два «крестьянина» должны же, в конце концов, понять друг друга! Преодолев неимоверные препятствия, 88-летний поэт сумел-таки добраться до самого Хрущева, отдыхавшего где-то на черноморской даче; но обратить хитрого коммуниста в свою веру якобы простому фермеру, а на самом деле убежденному либералу Фросту не удалось.
«Я — либерал. Тебе, аристократу, / И невдомек, что значит либерал; / Изволь, я только подразумевал / Такую бескорыстную натуру, / Что вечно жаждет влезть в чужую шкуру», — писал он в том же стихотворении «Урок на сегодня».
Именно в концовке этого стихотворения содержатся слова, вырезанные на могильном камне Фроста в Беннингтоне:
I had a lover’s quarrel with the world.
Алексей Зверев в предисловии к билингве Роберта Фроста 1986 года предлагает перевод выражения a lover’s quarrel with the world — «любовная размолвка с бытием». Не уверен, что «размолвка» здесь самое подходящее слово, ведь оно подразумевает только эпизод, а у Фроста это нечто большее.
Впрочем, моя собственная версия, помещенная в той же книге, была ничуть не лучше. Прошли годы, пока я не придумал окончательный вариант последней строфы:
Я помню твой завет: Memento mori,
И если бы понадобилось вскоре
Почтить стихом мой камень гробовой —
Вослед чужим надтреснутым кумирам,
Вот этот стих: Я так бранился с миром,
Как милые бранятся меж собой.
[5] Перевод С. Шервинского.
[4] Здесь и далее, где имя переводчика не указано, перевод мой.
[6] Перевод М. Лозинского.

Темный Уоллес
Однажды Уоллес Стивенс выразился в том смысле, что в отличие от философии, которая есть, так сказать, официальный взгляд на бытие, поэзия — взгляд неофициальный. Склонность к философствованию в поэзии Стивенса сразу бросается в глаза. Порой он столь активно манипулирует абстракциями и логическими построениями, что становится темным, как Гераклит-философ, которого так и прозвали. Кроме того, Стивенс, как библейский проповедник, любит говорить притчами и загадками. И загадки его не всегда простые. Полная связка ключей к Стивенсу тяжела, очень тяжела.
Первый его сборник стихов «Фисгармония» вышел в 1923 году, когда поэту было сорок три года. Стихи этого сборника отчетливо модернистские, порою даже авангардистские. Скажем, «Анекдот с банкой»:
Я банку водрузил на холм
В прекрасном штате Теннеси,
И стал округой дикий край
Вокруг ее оси.
Взлохмаченная глухомань
К ней, как на брюхе, подползла.
Она брала не красотой,
А только круглотой брала.
Не заключая ничего
В себе — ни птицы, ни куста,
Она царила надо всем,
Что было в штате Теннеси.
Проницательные критики не замедлили сопоставить это стихотворение с «Одой греческой вазе» Китса:
О строгая весталка тишины,
Питомица медлительных времен,
Молчунья, на которой старины
Красноречивый след запечатлен…
Ваза Китса повествует о гармоничном мифе античности; она заповедует: «Красота есть истина, истина — красота». Но на банке Стивенса ничего не запечатлено. Это чистая геометрия — вроде тех квадратов и кругов Малевича, что поразили публику на первых выставках супрематизма. Шутка лишь в том, что вы никогда не поймете, всерьез или нет Стивенс изображает победу банки над «взлохмаченной глухоманью», т. е. над природой.
Итак, супрематизм — это раз. Пойдем дальше. Возьмем стихотворение «Черви у небесных ворот»:
Мы из могилы принцессу несем —
В чреве своем — к райских вратам.
Мы — колесница Бадрульбадур.
Вот её око. Вот, чередой,
Ресницы ока и веко её.
Вот её века подпора — щека.
Вот, палец за пальцем, рука —
Гений, слетавший к этой щеке,
Губы и всё остальное — до ног.
..............................
Мы — колесница Бадрульбадур.
Эта уже сюрреализм. Или, если угодно, кубизм, ибо принцесса доставляется могильными червями в рай по частям: вот ее око, вот веко, вот ресницы. Красота разъята, показана в отдельных пугающих деталях — пугающих, потому что исчезла их связь и гармония.
Супрематизм, сюрреализм, кубизм — что дальше? Конечно же имажизм. «Тринадцать способов смотреть на дрозда» и «Шесть пейзажей к размышлению» — стопроцентно имажистские вещи, с китайской (в духе Эзры Паунда) интонацией и колоритом.
Имажистское влияние демонстрирует и «Доминация черных тонов» — одно из самых известных (и любимых автором) стихотворений «Фисгармонии». Впрочем, обертоны здесь глубже и глуше. Как Платон в притче о пещере или, наоборот, современный спирит, Стивенс вглядывается в тени, колышущиеся по стенам:
В полночь, у камина,
Отблески цветные,
Цвета осени и палых листьев,
Улетали во тьму
И возвращались,
Словно листья,
Кружимые ветром.
Но тяжелые тени черных пиний
Наступали.
И во тьме раздался крик павлиний.
Любопытно сравнить это со знаменитыми строками В. Брюсова:
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Но у Брюсова тени на стене — арабески фантазии, узоры поэтической мечты. У Стивенса это — драматическое столкновение звуков… Тут уже не Брюсов, а зрелый Мандельштам:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.
(«Концерт на вокзале», 1921)
Совпадает не только павлиний крик, но и фраза «мне страшно». У Стивенса:
I felt afraid.
And I remembered the cry of the peacocks.
