автордың кітабын онлайн тегін оқу Пробуждение
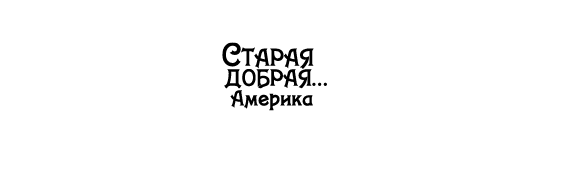
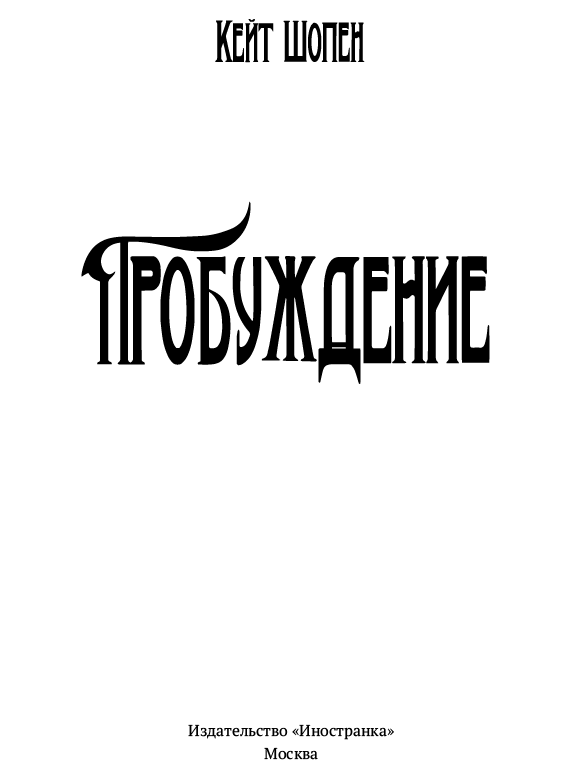
Kate Chopin
THE AWAKENING
Перевод с английского Анастасии Рудаковой
Серийное оформление Екатерины Скворцовой
Оформление обложки и иллюстрация на обложке Екатерины Скворцовой
Шопен К.
Пробуждение : роман, рассказы / Кейт Шопен ; пер. с англ. А. Рудаковой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2025. — (Старая добрая...).
ISBN 978-5-389-28196-7
16+
Штат Луизиана, конец XIX века. Супруги Эдна и Леонс Понтелье с двумя маленькими детьми отдыхают в пансионате на берегу Мексиканского залива. Эдна — красавица и умница, Леонс — успешный бизнесмен. Но в отношениях этой, казалось бы, идеальной пары возникает трещина. День за днем Эдна находит все больше удовольствия в общении с Робером, старшим сыном владелицы курорта. Обаятельный и услужливый Робер разительно отличается от немногословного мужа-сухаря, и внезапно Эдна понимает, что без памяти влюблена. Молодая женщина словно пробуждается от сна рутинной семейной жизни, полностью отдавшись во власть новых чувств. Сладкие мечты, безумные надежды… Эдна торопит события, стремится навстречу своему счастью. Счастливое будущее манит, кажется таким близким…
Кроме романа «Пробуждение», в сборник вошли великолепные рассказы Кейт Шопен — яркие, интригующие истории из жизни страстных американских креолов.
© А. А. Рудакова, перевод, 2025
© Е. С. Скворцова, иллюстрация на обложке, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025
Издательство Иностранка®
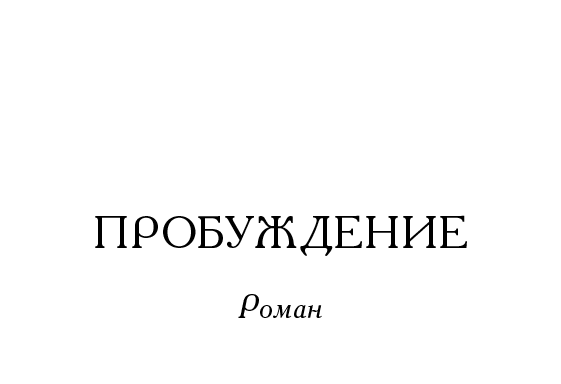
I
Желто-зеленый попугай в висевшей за дверью клетке неумолчно талдычил:
— Allez vous-en! Allez vous-en! Sapristi! [1] Всё в порядке!
Он немного говорил по-испански, а также на языке, которого никто не понимал, разве что пересмешник, который сидел в клетке по другую сторону двери и с одуряющим упорством выводил на ветерке свои переливчатые трели.
Лишенный возможности читать газету в мало-мальском комфорте, мистер Понтелье с недовольным видом поднялся, досадливо крякнув.
Мужчина прошел по галерее и узким «мостикам», соединявшим лебреновские коттеджи друг с другом. До этого он сидел перед дверью главного дома. Попугай и пересмешник принадлежали мадам Лебрен и имели право гомонить сколько угодно. Мистер же Понтелье обладал привилегией покидать их общество, как только они переставали его занимать.
Он остановился перед дверью своего коттеджа — четвертого, предпоследнего, считая от главного здания. И, опустившись в плетеное кресло-качалку, снова принялся за чтение газеты. День был воскресный, газета вчерашняя. Воскресные газеты до Гранд-Айла [2] еще не добрались. Мистер Понтелье уже ознакомился с обзорами рынков и сейчас старательно просматривал передовицы и новости, которые не успел проштудировать накануне, перед отъездом из Нового Орлеана.
Мистер Понтелье носил очки. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, довольно щуплого телосложения и слегка сутулый. У него были прямые, уложенные на косой пробор каштановые волосы и аккуратно подстриженная бородка.
Время от времени он отрывал взгляд от газеты и озирался по сторонам. Главное строение, чтобы отличать его от коттеджей, называли Домом. Сейчас в нем было шумнее, чем обычно. Там по-прежнему щебетали и свистели птицы в клетках. Две юные особы, двойняшки Фариваль, исполняли на фортепиано дуэт из «Цампы» [3]. Мадам Лебрен суетливо сновала с улицы в Дом и обратно, громко отдавая распоряжения дворовому мальчику всякий раз, когда заходила внутрь, и столь же громко снабжая указаниями столовую прислугу, когда выходила.
Это была моложавая, привлекательная женщина, всегда одетая в белое платье с рукавами до локтей и при ходьбе шуршавшая накрахмаленными юбками. Дальше, перед одним из коттеджей, чинно прогуливалась, перебирая четки, дама в черном. Немалая часть обитателей пансиона отправилась на люгере «Бодле» на соседний остров Шеньер-Каминада, чтобы послушать мессу. Несколько молодых людей играли под черными дубами в крокет. Там же находились и двое сыновей мистера Понтелье — крепкие мальчуганы четырех и пяти лет. За ними с рассеянным, задумчивым видом следила няня-квартеронка.
Наконец мистер Понтелье зажег сигару и, выпустив из рук газету, закурил. Он устремил взгляд на белый зонтик, медленно приближавшийся со стороны пляжа. Тот отчетливо вырисовывался между иссохшими стволами черных дубов над лужком, поросшим желтой пупавкой. Залив, истаивавший в синеве горизонта, казался очень далеким. Зонтик продолжал неторопливо приближаться. Под его белоснежным, с розовой подкладкой куполом укрывались от солнца жена мистера Понтелье и молодой Робер Лебрен. Добравшись до коттеджа, эти двое с утомленным видом уселись на верхнюю ступеньку крыльца лицом друг к другу, прислонившись к стойкам перил.
— Что за сумасбродство! Купаться в такой час, в такую жару! — воскликнул мистер Понтелье. Сам он искупался на рассвете. Вот почему утро показалось ему таким долгим. — Ты обгорела до неузнаваемости, — добавил он, оглядывая жену, словно принадлежащую ему ценную личную вещь, претерпевшую некоторый ущерб.
Миссис Понтелье подняла руки — сильные и красивые — и критически осмотрела их, закатав батистовые рукава. При этом она вспомнила о своих кольцах, которые отдала супругу перед уходом на пляж. Женщина молча протянула руку, и муж, сразу сообразив, что ей нужно, достал кольца из жилетного кармашка и положил на ее раскрытую ладонь. Миссис Понтелье нанизала украшения на пальцы, затем обняла свои колени и, покосившись на Робера, засмеялась. Кольца на ее пальцах заискрились. Робер адресовал ей ответную улыбку.
— Что такое? — с ленивым любопытством поинтересовался Понтелье, переводя взгляд с одного на другую.
Там, в воде, случилось нечто забавное, совершенный пустяк, и оба попытались наперебой поведать об этом. Но в их изложении происшествие оказалось и вполовину не столь занимательным. Молодые люди это почувствовали, и мистер Понтелье тоже. Он зевнул и потянулся. После чего встал, объявив, что не прочь отправиться в отель Клайна, чтобы сыграть партию в бильярд.
— Идемте вместе, Лебрен, — предложил он Роберу.
Но тот откровенно признался, что предпочитает остаться и поболтать с миссис Понтелье.
— Что ж, когда он тебе надоест, пошли его подальше, Эдна, — проинструктировал ее муж, собираясь уходить.
— Вот, возьми. — Молодая женщина протянула ему зонтик.
Мистер Понтелье взял его, поднял над головой и, спустившись по лестнице, зашагал прочь.
— Вернешься к ужину?! — крикнула жена ему вдогонку.
Мистер Понтелье на минуту остановился и пожал плечами. Порылся в жилетном кармашке, нащупал десятидолларовую купюру. Он не знал, вернется к ужину или нет. Все будет зависеть от компании, которая соберется у Клайна, и от того, как пойдет игра. Мужчина не сказал этого вслух, но жена его поняла и, рассмеявшись, кивнула ему на прощание.
Оба сынишки, увидев, что отец уходит, бросились за ним. Мистер Понтелье поцеловал их и пообещал принести конфет и арахиса.
II
У миссис Понтелье были живые, блестящие глаза золотисто-карего оттенка, примерно такого же, как ее волосы. Она имела обыкновение внезапно обращать взгляд на какой-нибудь предмет и замирать, точно теряясь в некоем потаенном лабиринте созерцания или раздумья. Брови ее были немного темнее волос. Густые, почти горизонтальные, они подчеркивали глубину взгляда. Миссис Понтелье была скорее привлекательна, чем красива. Лицо ее пленяло определенной непосредственностью выражения и неуловимо тонкой игрой черт. Манеры ее были очаровательны.
Робер свернул папиросу. Он говорил, что курит папиросы, потому что не может позволить себе сигары. В кармане у него лежала сигара, подаренная мистером Понтелье, и Робер берег ее, чтобы насладиться ею после обеда. Казалось, что с его стороны это вполне уместно и естественно. Цветом кожи Робер Лебрен не отличался от своей спутницы. Его чисто выбритые подбородок и щеки делали это сходство еще более заметным. На открытом лице молодого человека не виднелось и тени озабоченности. Его глаза вбирали и отражали лишь свет и блаженную истому летнего дня.
Миссис Понтелье взяла лежавший на крыльце веер из пальмовых листьев и стала обмахиваться. Робер выпускал изо рта легкие облачка дыма. Оба без умолку болтали обо всем подряд: о забавном эпизоде, происшедшем в воде (он вновь обрел прежнюю занимательность); о ветре, деревьях, уехавших на Шеньер соседях; о детях, игравших под дубами в крокет; о двойняшках Фариваль, которые в этот момент исполняли увертюру к «Поэту и крестьянину» [4].
Робер много говорил о себе. Он был очень молод и мало о чем имел понятие. Миссис Понтелье по той же самой причине говорила о себе мало. Оба с интересом внимали друг другу. Молодой человек рассказывал о своем намерении осенью отправиться в Мексику, где его наверняка будет ждать удача. Он всегда стремился в Мексику, но до сих пор не бывал там. А пока занимал скромную должность в одном из торговых домов Нового Орлеана, где отличное знание трех языков — английского, французского и испанского — придавало ему немалую ценность как клерку и сотруднику, ведающему корреспонденцией.
Летний отпуск Робер, как обычно, проводил с матерью на Гранд-Айле. В прежние времена, которых он не помнил, дом являлся летней загородной резиденцией Лебренов. Теперь, обстроенный дюжиной коттеджей, которые всегда занимали изысканные постояльцы из Quartier Français [5], Дом позволял мадам Лебрен поддерживать беззаботное и комфортное существование, на которое она, по всей видимости, имела право по рождению.
Миссис Понтелье поведала об отцовской плантации на Миссисипи и доме в старинном «мятликовом штате» Кентукки, где провела детство. Она была американкой с небольшой примесью французской крови, кажется никак не проявившейся. Потом молодая женщина прочла письмо от своей сестры, которая жила на востоке страны и была обручена. Робер заинтересовался. Он желал знать, какие отношения у сестер, что представляет собой отец миссис Понтелье и давно ли умерла ее мать.
Когда женщина сложила письмо, настало время переодеваться к раннему ужину.
— А Леонс все не возвращается, — произнесла она, бросив взгляд в том направлении, куда ушел муж.
Робер предположил, что он и не вернется, поскольку у Клайна полно завсегдатаев новоорлеанских клубов.
Когда миссис Понтелье, покинув молодого человека, ушла к себе, тот спустился с крыльца и направился к играющим в крокет, где оставшиеся до ужина полчаса беспечно резвился с мальчиками Понтелье, которые его просто обожали.
III
Мистер Понтелье вернулся от Клайна только в одиннадцать часов вечера. Он был в отличном настроении, бодр и весьма разговорчив. Его появление разбудило жену, которая, когда он пришел, уже лежала в постели и крепко спала. Раздеваясь, мистер Понтелье стал болтать с нею, пересказывая услышанные за день анекдоты, новости и сплетни. Он вытащил из брюк ворох мятых банкнот и целую пригоршню серебряных монет, которые вместе с ключами, ножом, носовым платком и прочим содержимым карманов, не разбирая, вывалил на бюро. Женщину одолевал сон, и она отвечала мужу односложно. Тому казалось весьма досадным, что супруга — единственный смысл его существования — проявляет столь мало интереса к касающимся его вещам и так мало ценит общение с ним.
Конфеты и арахис для мальчиков мистер Понтелье принести забыл. Все же он очень любил сыновей и пошел в соседнюю комнату, где те спали, чтобы взглянуть на них и убедиться, что они отдыхают с комфортом. Его проверка дала отнюдь не удовлетворительный результат. Он принялся заново устраивать детей в кроватях. Один из мальчиков начал брыкаться и бормотать что-то про корзину с крабами.
Мистер Понтелье вернулся к жене с известием о том, что Рауля лихорадит и ему нужен уход. Затем он зажег сигару, подошел к открытой двери и сел возле нее.
Миссис Понтелье была совершенно уверена, что никакой лихорадки у Рауля нет. Она сказала, что сын отправился в постель совершенно здоровым и его весь день ничто не беспокоило. Однако мистер Понтелье слишком хорошо знал симптомы лихорадки и не мог ошибиться. Он заверил жену, что у ребенка, спящего в соседней комнате, сильный жар. И упрекнул женщину в безразличии, в привычном пренебрежении сыновьями. Если не мать должна ухаживать за детьми, то кто же, черт побери?! У него самого в конторе дел по горло. Он не может быть в двух местах одновременно — добывать средства к существованию семьи на работе и следить, чтобы с ними ничего не приключилось дома. Мужчина говорил нудным, менторским тоном.
Миссис Понтелье поднялась с постели и скрылась в соседней комнате. Вскоре женщина вернулась, села на край кровати и опустила голову на подушку. Она не произнесла ни слова и отказалась отвечать мужу, когда тот стал задавать вопросы. Докурив сигару, он лег и через полминуты погрузился в сон.
Миссис Понтелье к тому времени окончательно проснулась. Она немного всплакнула, после чего вытерла глаза рукавом пеньюара. Затем задула свечу, оставленную мужем, сунула босые ноги в атласные mules [6], стоявшие у изножья кровати, и вышла на веранду, где опустилась в плетеное кресло-качалку и стала тихонько раскачиваться.
Было уже за полночь. Окна всех коттеджей были темными. Единственный слабый огонек мерцал в прихожей Дома. Вокруг не раздавалось ни единого звука, кроме уханья старой совы на верхушке черного дуба да извечного голоса моря, который в этот тихий час не был громок и разносился в ночи как заунывная колыбельная.
Слезы так быстро наворачивались на глаза миссис Понтелье, что промокший рукав ее пеньюара с ними уже не справлялся. Одной рукой она ухватилась за спинку кресла, при этом просторный рукав соскользнул к плечу, обнажив поднятую руку. Женщина уткнулась пылающим мокрым лицом в сгиб локтя и продолжала плакать, больше не пытаясь вытирать лицо, глаза, руки. Она не смогла бы сказать, отчего плакала. Эпизоды, подобные тому, что произошел в спальне, были обычны для ее замужней жизни. Прежде они как будто не имели большого значения в сравнении с безграничной добротой мужа и его неизменной преданностью, которая сделалась чем-то само собой разумеющимся и обязательным.
Не поддающаяся описанию подавленность, возникшая, кажется, в некоем неведомом уголке сознания, наполнила все существо неясной тоской. Словно туман опустился на летний день души. Оно было странным и непривычным, это настроение. Эдна не стала мысленно упрекать мужа, сетуя на судьбу, которая направила ее по тому пути, которым оба они пошли. Она просто хорошенько выплакалась. А над нею пировали москиты, кусая ее упругие, округлые предплечья, впиваясь в обнаженные ступни. Назойливо звенящим маленьким кровососам удалось взять верх над настроением, которое могло бы продержать миссис Понтелье на темной веранде еще полночи.
На следующее утро мистер Понтелье встал рано, ожидая прибытия экипажа, который должен был доставить его на пристань, к пароходу. Он возвращался в город, в свою контору, и до субботы не должен был показаться на острове. Мужчина вновь обрел самообладание, как будто несколько пошатнувшееся минувшей ночью. Ему не терпелось уехать, ибо он предвкушал оживленную неделю на Каронделет-стрит [7].
Мистер Понтелье отдал жене половину денег, которые принес из отеля Клайна накануне вечером. Она, как большинство женщин, любила деньги и приняла их с немалым удовлетворением.
— На них можно купить красивый свадебный подарок сестрице Дженет! — воскликнула миссис Понтелье, разглаживая и пересчитывая купюры.
— О! Сестрица Дженет заслуживает большего, дорогая, — рассмеялся мистер Понтелье, собираясь поцеловать жену на прощание.
Рядом вертелись мальчики, хватая отца за ноги и упрашивая привезти им в следующий раз всякой всячины. Мистер Понтелье был всеобщим любимцем, и попрощаться с ним обязательно являлись и дамы, и джентльмены, и дети, и даже няньки. Пока старый экипаж увозил его прочь по песчаной дороге, жена стояла, улыбаясь и махая рукой, а сыновья кричали ему вслед.
Несколько дней спустя из Нового Орлеана для миссис Понтелье прибыла посылка от мужа. Она была битком набита friandises — роскошными и аппетитными лакомствами. Там были отборные фрукты, паштеты, пара редких бутылок вина, восхитительные сиропы и гора конфет.
Миссис Понтелье всегда щедро делилась содержимым подобных посылок, которые привыкла получать. Паштеты и фрукты уносили в столовую, конфеты раздавали всем подряд. И дамы, привередливо и с некоторой алчностью выбирая угощение изящными пальчиками, дружно заявляли, что мистер Понтелье — лучший в мире супруг. Миссис Понтелье приходилось признавать, что ей повезло, как никому другому.
IV
Мистеру Понтелье при всем желании было трудно убедительно определить, в чем его жена не выполняет свой долг по отношению к детям. Он скорее ощущал это, чем знал, и, проговариваясь о своем ощущении, впоследствии всегда раскаивался и полностью искупал вину.
Если один из маленьких Понтелье во время игры спотыкался и падал, то не бросался, рыдая, за утешением в объятия матери, а чаще всего поднимался, вытирал слезы со щек и песок с губ и возвращался к игре. Оба бутуза держались вместе и, не жалея кулаков и глоток, дружно отстаивали свои позиции в детских драках, как правило одерживая верх над всякими там маменькиными сынками. Няню-квартеронку они считали огромной обузой, годной лишь для того, чтобы застегивать им штанишки да расчесывать на пробор волосы, ибо аккуратная прическа с прямым пробором являлась, по-видимому, непреложным общественным установлением.
Словом, миссис Понтелье не была женщиной-матерью в ее классическом понимании. А тем летом на Гранд-Айле преобладали, кажется, именно таковые. Они были легко узнаваемы: как только их драгоценным отпрыскам грозила какая-нибудь беда, реальная или мнимая, матери тотчас принимались кудахтать, раскрывая свои ограждающие объятия. Эти женщины боготворили детей, поклонялись мужьям и почитали своим священным правом отказаться от собственной личности и отрастить себе крылья ангела-хранителя.
Многие вышеописанные дамы были восхитительны в этой роли, а одна из них являлась подлинным воплощением женской прелести и обаяния. Если бы муж ее не обожал, он был бы просто грубияном, достойным медленной мучительной смерти. Звали это создание Адель Ратиньоль. Чтобы описать эту женщину, не найдется иных слов, кроме избитых фраз, слишком часто служивших для изображения героинь старинных романов и прекрасных дам из наших грез.
В очаровании Адели не было ничего неуловимого или потаенного. Красота ее, яркая и очевидная, сразу бросалась в глаза: золотистые волосы, с которыми не могли справиться ни гребень, ни заколка; бесподобные голубые глаза, которые можно было сравнить только с сапфирами; пухлые губки, такие алые, что при взгляде на них в голову приходили лишь вишни или какие-нибудь другие яркие спелые плоды. С годами Адель Ратиньоль слегка располнела, но это, казалось, ни на йоту не умаляло грациозности каждого ее шага, позы, жеста. Никто не пожелал бы, чтобы ее белая шейка была хоть чуточку стройнее, а прекрасные руки — тоньше. Не нашлось бы рук изящнее, чем у нее. Как приятно было любоваться ими, когда мадам Ратиньоль вдевала нитку в иголку, поправляла на тонком среднем пальце золотой наперсток, делала стежки на детском ночном костюмчике, кроила лиф или слюнявчик.
Мадам Ратиньоль очень любила миссис Понтелье. Нередко она брала свое шитье и приходила посидеть с нею после обеда. Адель была у приятельницы и в тот день, когда из Нового Орлеана доставили посылку. Она расположилась в кресле-качалке и усердно корпела над миниатюрным ночным костюмчиком.
Гостья принесла миссис Понтелье его выкройку — чудо портновской мысли, целиком скрывавшее детское тельце, так что наружу выглядывали только глаза, что придавало малышу сходство с маленьким эскимосом. Этот предмет одежды предназначался для зимней поры, когда через дымоходы в дом проникали предательские сквозняки, а через замочные скважины — коварные струи беспощадного холода.
Относительно теперешних материальных потребностей своих сыновей миссис Понтелье была совершенно спокойна, в том же, чтобы делать предметом своих летних размышлений заботы о зимних ночных одеяниях, смысла она не видела. Однако, не желая показаться нелюбезной и безразличной, принесла газеты, которые расстелила на полу галереи, и под руководством мадам Ратиньоль сняла выкройку наглухо закрытого костюмчика.
На крыльце, как и в прошлое воскресенье, сидел Робер, и миссис Понтелье тоже заняла свое прежнее место на верхней ступеньке, лениво прислонившись к стойке перил. Рядом с нею стояла коробка конфет, которую она время от времени протягивала мадам Ратиньоль.
Эта дама, казалось, испытывала затруднения с выбором, но в конце концов решилась взять палочку нуги, попутно рассуждая, не слишком ли приторно это лакомство и не повредит ли оно ей. Мадам Ратиньоль была замужем семь лет и примерно каждые два года производила на свет очередного младенца. В то время у нее было трое детей, и она задумалась о четвертом. Адель вечно твердила о своем «положении». «Положение» отнюдь не было очевидным, и никто бы о нем не догадался, если бы не ее одержимость этой темой.
Робер начал разуверять мадам Ратиньоль, утверждая, что знавал даму, которая питалась нугой всю бер… Но, увидев, что миссис Понтелье залилась краской, осекся и сменил тему.
Миссис Понтелье, хотя и вышла замуж за креола, не чувствовала себя в креольском обществе непринужденно: раньше она не водила с этими людьми близких знакомств. Тем летом у Лебренов жили исключительно креолы. Все они знали друг друга и ощущали себя одной большой семьей, в которой существовали самые дружеские отношения. Отличительной особенностью этого общества, производившей на миссис Понтелье самое сильное впечатление, являлось полное отсутствие ханжества. Царящая в данной среде вольность речей поначалу была для Эдны непостижима, хотя нетрудно было усмотреть в этой вольности связь с возвышенным целомудрием, казалось присущим креольской женщине от рождения и непогрешимым.
Эдна Понтелье никогда не забудет потрясения, которое испытала, услышав, как мадам Ратиньоль рассказывает старому месье Фаривалю душераздирающую историю одних своих accouchements [8], не скрывая ни единой интимной подробности. Эдна уже начала привыкать к подобным потрясениям, но над румянцем, вспыхивавшим на щеках, была не властна. Ее появление не единожды обрывало на полуслове Робера, развлекавшего забавными историями веселую компанию замужних дам.
По пансиону передавали из рук в руки некую книгу. Когда очередь дошла до миссис Понтелье, та была повергнута в глубокое изумление. Ей казалось, что сей опус следует читать втайне и уединении, хотя остальные этого не делали, и немедленно прятать от посторонних глаз, заслышав приближающиеся шаги. Но книгу открыто подвергали разбору и непринужденно обсуждали за столом. Миссис Понтелье перестала поражаться и заключила, что увидит еще и не такие чудеса.
V
В тот ясный летний день на веранде собралась весьма приятная компания: мадам Ратиньоль, часто отрывавшаяся от шитья, чтобы поведать какую-нибудь историю или происшествие, и экспрессивно жестикулировавшая своими идеальными руками, а также Робер и миссис Понтелье, сидевшие без дела и время от времени обменивавшиеся словами, взглядами или улыбками, которые указывали на их уже довольно тесную дружескую близость и camaraderie [9].
В течение последнего месяца Робер жил в тени Эдны. Значения этому никто не придавал. Многие предрекали, что молодой Лебрен, приехав в отпуск, посвятит себя поклонению именно миссис Понтелье. С пятнадцатилетнего возраста, то есть вот уже одиннадцать лет, Робер каждое лето на Гранд-Айле становился преданным слугой какой-нибудь прекрасной дамы или девицы. Иногда совсем юной особы или вдовы, но чаще всего интересной замужней женщины. Два сезона подряд он грелся в лучах очарования мадемуазель Дювинь. Но после очередного лета та умерла, и Робер, прикинувшись безутешным, повергся к ногам мадам Ратиньоль в поисках тех крох сочувствия и успокоения, коими она могла его удостоить.
Миссис Понтелье нравилось сидеть и смотреть на свою прекрасную гостью, любуясь ею, точно беспорочной Мадонной.
— Догадывается ли кто-нибудь, какая жестокость скрывается за этой обворожительной внешностью? — сетовал Робер. — Она знала, что когда-то я обожал ее, и позволяла мне себя обожать. Она говорила: «Робер, подойдите, отойдите, встаньте, сядьте, сделайте это, сделайте то, посмотрите, спит ли малыш, отыщите, пожалуйста, мой наперсток, который я оставила бог знает где. Приходите и почитайте мне Доде, пока я шью».
— Par exemple! [10] Мне и просить не приходилось, — усмехнулась Адель. — Вы вечно путались у меня под ногами, как липучий кот.
— Вы хотите сказать — как преданный пес? А стоило появиться на сцене Ратиньолю, со мной и обращались как с собакой: «Passez! Adieu! Allez vous-en!» [11]
— Вероятно, я боялась, как бы Альфонс не приревновал, — с обезоруживающей непосредственностью перебила его мадам Ратиньоль.
Все дружно рассмеялись. Правая рука, ревнующая к левой! Сердце, ревнующее к душе! Собственно говоря, креольский муж никогда не ревнует: он из тех, у кого омертвевшая страсть, вышедшая из употребления, сходит на нет.
Тем временем Робер, обращаясь к миссис Понтелье, продолжал повествовать о своей былой безнадежной страсти к мадам Ратиньоль, о бессонных ночах и о всепожирающем пламени, которое заставляло вскипать само море, когда он, Робер, совершал свое ежедневное погружение в его воды. А дама, о которой шла речь, продолжала орудовать иглой, мимоходом отпуская пренебрежительные комментарии:
— Blagueur… farceur… gros bête, va! [12]
Робер ни разу не переходил на этот комически серьезный тон, оставаясь с миссис Понтелье наедине. И Эдна никогда не знала наверняка, как его следует понимать. В данный момент она была не в силах угадать, сколько в этом тоне насмешки и сколько искренности. Было ясно, что Робер нередко говорил мадам Ратиньоль слова любви, отнюдь не рассчитывая, что их воспримут всерьез. Эдна радовалась, что сама не сделалась объектом подобного внимания. Это было бы неприемлемо и малоприятно.
Миссис Понтелье взяла с собой принадлежности для рисования, которым иногда по-дилетантски баловалась. Ей были по душе эти любительские занятия. Она находила в них удовлетворение такого рода, которое не давала ей никакая другая деятельность.
Эдна давно подступалась к портрету мадам Ратиньоль. Никогда еще Адель не казалась ей более заманчивой моделью, чем в это мгновение, когда сидела на крыльце, точно некая чувственная Мадонна, и отблески угасающего дня еще ярче подчеркивали ее великолепный румянец.
Робер пересел к миссис Понтелье, устроившись ступенькой ниже, чтобы понаблюдать за ее работой. В ее обращении с кистями проглядывали определенные легкость и свобода, обусловленные не долгим и близким знакомством с принадлежностями для рисования, а врожденными способностями. Молодой человек с пристальным вниманием следил за движениями миссис Понтелье, отпуская по-французски краткие одобрительные замечания, обращенные к мадам Ратиньоль:
— Mais ce n’est pas mal! Elle s’y connait, elle a de la force, oui [13].
Один раз, забывшись, Робер спокойно положил голову на плечо миссис Понтелье. Она с тем же спокойствием отстранила его. Он повторил свой проступок. Эдна могла приписать его лишь бессознательному побуждению, однако это не значило, что следует терпеть подобное поведение. Она не выразила протеста, но вновь отстранила Робера, по-прежнему спокойно и вместе с тем твердо. Он не принес никаких извинений.
Завершенный портрет не имел ничего общего с мадам Ратиньоль. Та была весьма разочарована, обнаружив, что изображение совсем на нее не похоже. Впрочем, работа вышла вполне недурная и во многих отношениях достойная. Миссис Понтелье, очевидно, так не показалось. Критически осмотрев этюд, она размазала по его поверхности краску и скомкала бумажный лист.
На крыльцо взбежали мальчики, за ними на почтительном расстоянии, как они того требовали, следовала квартеронка. Миссис Понтелье велела сыновьям отнести ее краски и принадлежности в дом. Перед этим она попыталась было задержать их, чтобы немного поговорить с ними и приласкать. Но карапузы были очень серьезны. Они явились лишь для того, чтобы исследовать содержимое коробки конфет. Протянув пухлые ручки со сложенными лодочкой ладошками в тщетной надежде, что их наполнят доверху, дети безропотно приняли то количество конфет, которое мать решила им выдать, после чего убежали.
Солнце уже клонилось к западу, нежный, томный бриз, дувший с юга, был напоен обольстительным ароматом моря. Дети, только что переодетые, собирались идти играть под дубами. Они переговаривались высокими, пронзительными голосами.
Мадам Ратиньоль сложила шитье, поместив наперсток, ножницы и нитки внутрь скатанной в рулон материи, который скрепила булавкой. Неожиданно она пожаловалась на дурноту. Миссис Понтелье побежала за одеколоном и веером. Затем она обтерла лицо мадам Ратиньоль одеколоном, а Робер с излишним усердием принялся обмахивать ее веером. Приступ вскоре миновал, и миссис Понтелье не могла не задаться вопросом, не повинно ли в его возникновении чересчур богатое воображение, ведь румянец с лица ее подруги так и не сошел. Она стояла и смотрела, как эта красавица вышагивает по длинным галереям с грацией и величием, присущим, как иногда полагают, королевам. Навстречу мадам Ратиньоль бросились ее малыши. Двое уцепились за ее белые юбки, третьего она взяла у няни и, осыпая тысячами нежностей, понесла сама. Хотя, как всех давно известили, доктор запретил ей поднимать даже булавку!
— Вы пойдете купаться? — осведомился Робер у миссис Понтелье.
Это был не столько вопрос, сколько напоминание.
— О нет, — ответила та с некоторой нерешительностью. — Я устала и, пожалуй, не пойду. — Она перевела взгляд с лица молодого человека на залив, чей звучный рокот доносился до нее точно ласковый, но повелительный призыв.
— Да полно вам! — настаивал он. — Нельзя пропускать купания. Ну же. Вода, должно быть, восхитительна. Она вам не повредит. Идемте!
Робер взял ее большую шляпу из грубой соломки, висевшую на крючке за дверью, и надел Эдне на голову. Они спустились с крыльца и вместе направились к пляжу. Солнце клонилось к западу, дул нежный, теплый бриз.
VI
Эдна Понтелье не смогла бы сказать, почему, желая пойти с Робером на пляж, она должна была сперва отказаться и только потом подчиниться одному из двух противоположных импульсов, которые ею двигали.
Внутри нее начинал смутно брезжить некий свет — свет, который, указывая путь, запрещает по нему следовать. В тот ранний период он лишь приводил ее в замешательство. Он пробуждал в ней мечты, задумчивость, неясную тоску, охватившую ее в ту полночь, когда она предавалась слезам. Словом, миссис Понтелье начинала понимать, какое место занимала во вселенной как человеческое существо, и осознавать свои личные взаимоотношения с миром внутри и вокруг себя. Может показаться, что на душу двадцативосьмилетней молодой женщины обрушился тяжкий груз мудрости — возможно, куда более весомый, чем тот, которым Дух Святой обычно соблаговолит удостаивать представительниц ее пола.
Но истоки вещей, особенно истоки мира, всегда неясны, запутанны, беспорядочны и чрезвычайно пугающи. Сколь немногие из нас возникают из подобных истоков! Какое множество душ гибнет в этом хаосе!
Голос моря чарует. Он никогда не смолкает: шепчет, шумит, рокочет, зовет душу немного поблуждать в пучинах уединения, затеряться в лабиринтах внутреннего созерцания. Голос моря обращается к душе. Прикосновение моря чувственно, море заключает тело в свои нежные, крепкие объятия.
VII
Миссис Понтелье была не из тех женщин, что склонны к откровенности: до сих пор это свойство противоречило ее натуре. Даже будучи ребенком, она жила собственной маленькой жизнью, недоступной окружающим. В раннем детстве Эдна инстинктивно приобщилась к двойному существованию — внешнему, подчиняющемуся правилам, и внутреннему, вопрошающему.
Тем летом на Гранд-Айле она немного приспустила мантию сдержанности, в которую всегда куталась. Возможно, то есть скорее всего, к этому ее разными способами побуждали как неуловимые, так и явные влияния, но наиболее очевидным было влияние Адели Ратиньоль.
Сперва Эдну, обладавшую чувственной восприимчивостью к красоте, привлекло невероятное физическое очарование креолки. Затем — открытость всего ее существования, которое было насквозь видно каждому и составляло столь разительный контраст с обычной сдержанностью самой Эдны, что и могло послужить связующим звеном. Кто скажет, из каких металлов боги куют незаметные узы, которые мы именуем симпатией, но вполне можем назвать и любовью.
Как-то утром обе женщины отправились на пляж вместе, рука об руку, под огромным белым зонтом от солнца. Миссис Понтелье уговорила мадам Ратиньоль не брать детей, хотя не сумела убедить ее оставить дома свернутое рулоном рукоделие: Адель умолила подругу позволить ей сунуть его в свой глубокий карман. Каким-то необъяснимым образом дамам удалось сбежать от Робера.
Путь к пляжу был не из легких, поскольку представлял собой длинную песчаную дорожку, на которую часто и внезапно вторгались окаймлявшие ее с обеих сторон спутанные растения. По обе стороны дорожки тянулись желтые заросли пупавки. За ними находились многочисленные огороды, перемежавшиеся небольшими плантациями апельсиновых и лимонных деревьев. Их далекие темно-зеленые купы искрились на солнце.
Обе женщины были довольно высоки. Мадам Ратиньоль обладала более женственными формами и походила на матрону. Сколь привлекательно телосложение Эдны Понтелье, вы постигали незаметно для себя. Удлиненные очертания ее тела были ясными и симметричными. Время от времени тело это принимало бесподобные позы, в нем не было ни малейшего сходства с шаблонной элегантностью модных картинок. Невзыскательный случайный наблюдатель, проходя мимо, мог и не бросить второго взгляда на эту фигуру. Но человек более восприимчивый и проницательный разглядел бы благородную красоту лепки, грациозную строгость осанки и движений, которые выделяли Эдну Понтелье из толпы.
В то утро на ней было легкое муслиновое платье — белое, с вертикальной волнистой коричневой полосой, проходящей сверху донизу, а также белый льняной воротничок и большая соломенная шляпа, которую она сняла с крючка у двери. Шляпа небрежно покоилась на золотисто-каштановых волосах, слегка волнистых, тяжелых и плотно прилегавших к голове.
Мадам Ратиньоль, куда более заботившаяся о цвете лица, накинула на голову газовую вуаль. На руках у нее были лайковые перчатки с раструбами, защищавшими запястья. Одета она была в белоснежное платье с пышными оборками, очень ей шедшее. Обильно задрапированные, развевающиеся наряды, которые носила Адель, оттеняли ее роскошную, ослепительную красоту намного лучше, чем строгие линии.
Вдоль пляжа размещалось несколько купален грубой, но прочной конструкции, с небольшими закрытыми галереями, обращенными к воде. Каждая купальня состояла из двух отделений, и каждое семейство, отдыхавшее у Лебренов, располагало своим отделением, снабженным всеми необходимыми принадлежностями для купания и любыми другими удобствами по желанию гостей.
Женщины не собирались купаться; они явились на пляж просто для того, чтобы прогуляться и побыть наедине у воды. Отделения Понтелье и Ратиньоль находились под одной крышей и примыкали друг к другу. Миссис Понтелье в силу привычки захватила с собой ключ. Отперев дверь своей купальни, она вошла туда и вскоре вышла с ковриком, который расстелила на полу галереи, и двумя огромными, набитыми волосом подушками, которые прислонила к фасаду постройки.
Дамы устроились рядышком в тени галереи, откинувшись на подушки и вытянув ноги. Мадам Ратиньоль сняла вуаль, вытерла лицо весьма изящным носовым платком и стала обмахиваться веером, который всегда носила с собой, подвешивая к одежде на длинной узкой ленте. Эдна сняла воротничок и расстегнула платье на шее. Потом забрала у мадам Ратиньоль веер и начала обмахивать себя и свою приятельницу. Было очень жарко, и некоторое время притомившиеся женщины лишь обменивались замечаниями о зное, солнце и его слепящих лучах. Но с моря дул бриз, порывистый, сильный ветер, образовывавший на воде пену. Он развевал юбки женщин, и им пришлось повозиться со шпильками и шляпными булавками, поправляя, вынимая и втыкая их заново. На некотором отдалении в воде плескалось несколько человек. В этот час на пляже было очень тихо. На галерее соседней купальни читала свои утренние молитвы дама в черном. Двое юных влюбленных, обнаружив, что под детским навесом никого нет, забрались туда и обменивались страстными признаниями.
Эдна Понтелье, осмотревшись, наконец устремила глаза на море. День был ясный, и взгляд ускользал в голубую даль небес, где над горизонтом лениво повисло несколько белых облачков. В направлении острова Кэт виднелся треугольный парус, другие далекие паруса в южной стороне казались почти неподвижными.
— О ком… о чем вы думаете? — спросила Адель у приятельницы, за лицом которой наблюдала с чуть удивленным вниманием, заинтригованная выражением самоуглубленной сосредоточенности, которое словно подчинило себе все черты и придало им величавое спокойствие.
— Ни о чем, — вздрогнув, ответила миссис Понтелье и тут же добавила: — Как глупо! Однако, сдается мне, этот ответ на подобный вопрос мы даем инстинктивно. Погодите, — продолжала она, запрокидывая голову и прищуривая прекрасные глаза, засверкавшие как два ярких огонька, — дайте-ка вспомнить. Вообще-то, я не осознавала, что о чем-то думала, но, возможно, мне удастся проследить ход своих мыслей.
— О, не берите в голову! — рассмеялась мадам Ратиньоль. — Я не настолько въедлива. На сей раз оставлю вас в покое. Сейчас слишком жарко, чтобы размышлять, особенно о мышлении.
— Но хоть забавы ради, — настаивала Эдна. — Прежде всего, вид водной глади, простирающейся так далеко, и эти неподвижные паруса на фоне голубого неба образовали восхитительную картину, и мне просто хотелось сидеть и любоваться ею. Знойный ветер, дувший мне в лицо, заставил меня вспомнить — без какой-либо очевидной связи — летний день в Кентукки и луг, казавшийся совсем маленькой девочке, бредущей в траве, что была выше пояса, столь же огромным, как океан. Шагая по лугу, она раскидывала руки, точно плыла, и раздвигала высокую траву, как раздвигают воду. О, теперь я вижу связь!
— И куда же вы направлялись в тот день через луг?
— Сейчас уже не помню. Я просто шла наискосок через большое поле. Капор загораживал мне обзор. Я видела только зеленое пространство перед собой, и мне чудилось, будто я обречена шагать вечно и никогда не доберусь до его конца. Не помню, что я ощущала: страх или радость. Должно быть, мне было интересно. Скорее всего, это происходило в воскресенье, — засмеялась Эдна, — и я сбежала от молитв, от пресвитерианской службы, которую отец читал столь мрачно, что от одной мысли об этом у меня и теперь мурашки бегут по коже.
— И с тех пор вы всегда избегаете молитв, ma chère [14]? — весело спросила мадам Ратиньоль.
— Нет! О нет! — поспешила ответить Эдна. — В те дни я была несмышленой малышкой, бездумно следовавшей ложным импульсам. Напротив, в какой-то период моей жизни религия приобрела прочную власть надо мной — с тех пор, как мне исполнилось двенадцать, и до… до… ну, полагаю, до сего времени, хотя я мало размышляла об этом, просто руководствуясь привычкой. Но, вы знаете, — женщина сделала паузу и, устремив быстрые глаза на мадам Ратиньоль, немного подалась вперед, приблизив свое лицо к лицу приятельницы, — этим летом мне иногда кажется, что я снова брожу по зеленому лугу, брожу праздно, бесцельно и бездумно.
Мадам Ратиньоль накрыла своей ладонью руку миссис Понтелье, лежавшую рядом. Видя, что Эдна не убирает руку, она крепко и пылко сжала ее. И даже нежно погладила другой рукой, пробормотав вполголоса:
— Pauvre chérie [15].
Сперва этот порыв немного смутил миссис Понтелье, но вскоре она охотно покорилась участливым ласкам креолки. Эдна не привыкла к явным и откровенным проявлениям привязанности, ни собственным, ни чужим. Они с младшей сестрой Дженет в силу прискорбной привычки часто ссорились. Старшая сестра Эдны, Маргарет, была особой чопорной и важной, вероятно, оттого, что слишком рано взяла на себя обязанности хозяйки дома, поскольку мать девочек умерла, когда те были совсем маленькие. Маргарет не была пылкой, она была практичной. У Эдны время от времени появлялись подруги, но, случайно или нет, все они, казалось, принадлежали к одному типу — замкнутому. Она так и не осознала, что ее собственная сдержанность была по большей части, если не всецело, обусловлена именно этим. В школе самая близкая ее подруга обладала весьма незаурядными умственными способностями, писала велеречивые сочинения, которыми Эдна восхищалась и которым стремилась подражать. С этой девочкой они вели возвышенные беседы об английских классиках, а порой — религиозные и политические споры.
Эдна часто дивилась одной своей наклонности, которая иногда нарушала ее внутренний покой, не порождая никаких внешних проявлений. Она помнила, что в очень раннем возрасте — возможно, в ту пору, когда бороздила океан колышущейся травы, — была страстно влюблена в представительного кавалерийского офицера с печальными глазами, который гостил у ее отца в Кентукки. Она ни на шаг от него не отходила и не могла отвести глаз от его лица с ниспадающей на лоб черной прядью, чем-то походившего на лицо Наполеона. Но кавалерийский офицер незаметно исчез из ее жизни.
В другой раз ее чувства глубоко затронул джентльмен, навещавший молодую даму с соседней плантации. Это случилось после того, как семья переселилась в Миссисипи. Молодой человек был помолвлен с той дамой, и иногда после обеда они заглядывали в гости к Маргарет, приезжая в коляске. Эдна была совсем юной девочкой, только становившейся подростком, и ее жестоко терзало осознание того, что в глазах помолвленного молодого джентльмена она — совершенное ничто. Но и он покинул ее грезы.
Эдна была уже взрослой молодой женщиной, когда ее настигло то, что она считала апогеем своей судьбы. Преследовать ее воображение и будоражить чувства начали лицо и фигура великого трагика. Продолжительность этой страсти придала ей ощущение подлинности. Безнадежность окрасила ее в возвышенные тона великой любви.
Фотография трагика в рамке стояла у Эдны на столе. Любой может иметь у себя портрет известного актера, не вызывая подозрений и пересудов. (Таково было лелеемое ею пагубное соображение.) В присутствии других она восхищалась его выдающимися способностями, передавая снимок по кругу и особо отмечая сходство с оригиналом. А оставшись одна, иногда брала рамку с фотографией и страстно целовала холодное стекло.
Ее брак с Леонсом Понтелье был чистой случайностью, в этом отношении напоминая многие другие браки, маскирующиеся под веления судьбы. Эдна встретила его в разгар своей великой тайной страсти. Он тотчас влюбился, как это часто бывает у мужчин, и добивался ее руки с серьезностью и пылом, которые не оставляли желать ничего лучшего. Леонс нравился Эдне, его безоговорочная преданность ей льстила. Она вообразила, что у них есть общность мыслей и вкусов, но ошиблась в этом. Прибавьте к этому яростное неприятие ее отцом и сестрой Маргарет брака с католиком — и вам уже не нужно будет доискиваться причин, побудивших ее принять предложение месье Понтелье.
Вершина блаженства, которой мог бы стать брак с трагиком, в этом мире была ей не суждена. Как преданная жена человека, который ее боготворил, Эдна сочла, что, навсегда закрыв за собой врата в царство романтики и грез, займет вполне достойное место в реальном мире.
Но трагик быстро исчез, присоединившись к кавалерийскому офицеру, помолвленному молодому джентльмену и нескольким другим, и Эдна оказалась лицом к лицу с реальностью. Она привязалась к мужу, с каким-то необъяснимым удовлетворением осознав, что в ее чувстве нет ни капли страсти или избыточной и наигранной пылкости, которые могли бы ему угрожать.
Ее любовь к детям была неровной, импульсивной. Порой она страстно прижимала их к сердцу, порой забывала о них. В прошлом году часть лета мальчики провели у своей бабушки Понтелье в Ибервиле. Уверенная в том, что сыновья счастливы и благополучны, Эдна по ним не скучала, если не считать редких приступов сильной тоски. Их отсутствие приносило ей определенное облегчение, хотя она не признавалась в этом даже себе самой. Оно как будто освобождало ее от ответственности, которую она безоглядно взвалила на себя и для которой Судьба ее не предназначила.
В тот летний день, когда они с мадам Ратиньоль сидели, обратив лица к морю, Эдна не открыла ей всего. Однако поведала многое. Ее голова лежала на плече Адели, щеки пылали, звук собственного голоса опьянял, и непривычный привкус откровенности кружил голову точно вино или первый глоток свободы.
Послышались приближающиеся голоса. Это был разыскивавший их Робер, окруженный толпой ребятишек. С ним были двое маленьких Понтелье, а на руках он нес маленькую дочку мадам Ратиньоль. Рядом шли другие дети, а за ними с недовольным и покорным видом следовали две няньки.
Дамы тотчас встали и начали отряхивать юбки и разминать мышцы. Миссис Понтелье забросила подушки и коврик в купальню. Дети умчались к навесу и выстроились там в ряд, глазея на вторгшихся под него влюбленных, которые до сих пор обменивались клятвами и вздохами. Молодые люди поднялись, выражая лишь безмолвный протест, и побрели искать другое пристанище. Дети заняли место под навесом, и миссис Понтелье подошла, чтобы присоединиться к ним. Мадам Ратиньоль попросила Робера проводить ее до дома, пожаловавшись на судороги в конечностях и одеревеневшие суставы. Она оперлась на его руку, тяжело повиснув на ней, и они ушли.
VIII
– Сделайте мне одолжение, Робер, — промолвила прелестная спутница молодого человека, как только они медленно зашагали к дому.
Опираясь на его руку под округлой тенью зонтика, который Робер держал у них над головами, она посмотрела прямо ему в лицо.
— Пожалуйста, я к вашим услугам, — ответил он, заглядывая в ее глаза, полные озабоченных раздумий.
— Я попрошу только об одном: оставьте миссис Понтелье в покое.
— Tiens! [16] — воскликнул Робер, внезапно разразившись ребячливым смехом. — Voilà que Madame Ratignolle est jalouse! [17]
— Чепуха! Я не шучу. Это серьезно. Оставьте миссис Понтелье в покое.
— Почему? — спросил молодой человек, которого просьба его спутницы заставила тоже посерьезнеть.
— Миссис Понтелье не такая, как мы. Эта женщина на нас не похожа. Она может совершить фатальную ошибку, если воспримет вас всерьез.
Лицо Робера вспыхнуло от досады. Сняв шляпу, молодой человек стал раздраженно похлопывать ею по ноге.
— А почему она не должна воспринимать меня всерьез? — резко осведомился он наконец. — Разве я комедиант, клоун, чертик из табакерки? Почему? О вы, креолы! Терпения на вас не хватает! Меня что, вечно будут считать гвоздем развлекательной программы? Надеюсь, миссис Понтелье уже воспринимает меня всерьез. Надеюсь, у нее достает проницательности видеть во мне не только blagueur [18]. Если бы я счел, что есть какие-то сомнения…
— Довольно, Робер! — прервала его возбужденные излияния мадам Ратиньоль. — Вы не думаете, чтó говорите. В ваших словах примерно столько же рассудительности, сколько мы вправе ожидать от одного из детей, играющих там, на песочке. Если бы вы когда-либо ухаживали за кем-то из здешних замужних дам с намерением быть убедительным, вы не были бы тем джентльменом, которого все мы знаем, и не смогли бы общаться с женами и дочерьми людей, которые вам доверяют. — Мадам Ратиньоль высказала то, что, по ее мнению, являлось законом и бесспорной истиной.
Молодой человек недовольно передернул плечами и бросил хмурый взгляд на нее.
— О! Вот те раз! — Он с ожесточением нахлобучил шляпу на голову. — Вам следует понимать, что столь нелестные вещи друзьям не говорят.
— Разве все наше общение должно состоять из обмена комплиментами? Ma foi! [19]
— Неприятно, когда женщина сообщает тебе… — продолжал Робер, не обращая внимания на ее слова, однако внезапно оборвал себя: — Вот если бы я был таким, как Аробен… Помните Алсé Аробена и ту историю с женой консула в Билокси?
И Лебрен поведал историю Алсе Аробена и жены консула, потом еще одну, о теноре французской оперы, получавшем неподобающие письма, а также другие истории, серьезные и веселые. В конце концов миссис Понтелье с ее предполагаемой склонностью принимать молодых людей всерьез была, судя по всему, забыта.
Мадам Ратиньоль, когда они добрались до ее коттеджа, ушла к себе, чтобы часок отдохнуть, что считала весьма полезным. Прежде чем покинуть свою спутницу, Робер попросил у нее прощения за досаду (он назвал ее грубостью), с какой воспринял ее благонамеренное предостережение.
— Вы допустили одну ошибку, Адель, — заявил молодой человек с легкой улыбкой. — Нет ни малейшего вероятия, чтобы миссис Понтелье когда-нибудь восприняла меня всерьез. Вам следовало предостеречь меня самого, чтобы я не воспринимал себя всерьез. Тогда ваш совет мог бы иметь некоторое влияние и дать мне повод для размышлений. Au revoir [20]. Однако у вас усталый вид, — заботливо добавил он. — Не желаете ли чашечку бульона? Хотите, приготовлю вам пунш? Позвольте мне добавить туда капельку ангостуры.
Мадам Ратиньоль приняла его приятное и разумное предложение выпить бульона. Робер сам отправился на кухню, занимавшую отдельное строение в стороне от коттеджей, на задворках Дома, и собственноручно принес ей золотисто-коричневый бульон в изящной чашке севрского фарфора с парочкой слоеных крекеров на блюдце.
Адель высунула из-за завесы, прикрывавшей дверной проем, обнаженную белую руку и взяла из его рук чашку. Она сказала ему, что он bon garçon [21], и слова эти были вполне искренни. Робер поблагодарил ее и вернулся к Дому.
В этот момент на территорию пансиона вошли влюбленные. Они склонялись друг к другу, точно черные дубы над морем. Под их ногами не чувствовалось земли. Эти двое вполне могли бы перевернуться вверх тормашками, столь уверенно ступали они по голубому эфиру. Дама в черном, тащившаяся вслед за ними, выглядела чуть более изнуренной и бледной, чем обычно. Миссис Понтелье и детей видно не было. Робер вгляделся в даль, ища их призрачные силуэты. Они, несомненно, не явятся до самого ужина.
Молодой человек поднялся в комнату матери. Это помещение, все составленное из причудливых углов под странным наклонным потолком, располагалось наверху, под самой крышей Дома. Два широких мансардных окна смотрели на залив, охватывая всю его ширь, насколько доставало человеческого глаза. Обстановка комнаты была легкая, свежая и практичная.
Мадам Лебрен деловито строчила на швейной машинке. На полу сидела маленькая чернокожая девочка и руками приводила в движение подножку. Креольская женщина не подвергает свое здоровье опасностям, которых можно избежать.
Робер пересек комнату и уселся на широкий подоконник одного из окон. Затем достал из кармана книгу и начал энергично, судя по четкости и частоте, с какой он переворачивал страницы, читать. Оглушительно грохотала швейная машинка — громоздкое устарелое устройство. В перерывах между строчками Робер и его мать вели бессвязный диалог.
— Где миссис Понтелье? — спросила женщина.
— На пляже с детьми.
— Я обещала одолжить ей Гонкуров. Не забудь снести книжку вниз, когда будешь уходить. Она на книжной по
