автордың кітабын онлайн тегін оқу Одна сверкающая нить
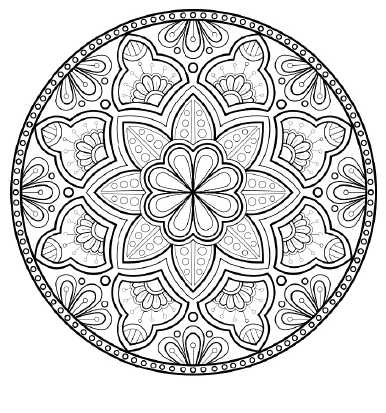
Салли Колин-Джеймс
Одна сверкающая нить
Любовь моя, через сколько жизней встретились наши сердца?
Сколько еще впереди?
Но все равно мало.
Sally Colin-James
One Illumined Thread
Copyright © Sally Colin-James 2023
Published by arrangement with Bold Type Agency Pty Ltd, Australia
© Соломахина В., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
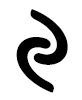
О книге
Хотя роман «Одна сверкающая нить» – художественное произведение, я написала его под впечатлением реальной биографии жены художника, жившего в эпоху Возрождения, и двух женщин на его известной картине. В этом выдуманном повествовании описываются исторические и библейские сюжеты. Однако художественная вольность в изображении персонажей и выборе времени для изобретений и событий – это приглашение присоединиться ко мне в продолжающемся – и, на мой взгляд, бесценном – исследовании того, что мы думаем, что знаем о себе, друг о друге и нашей жизни.
Арамейский считается языком, на котором говорили в период событий в Эйн-Кереме. Что касается названий и мест, обратитесь к глоссарию и примечаниям к переводу в конце книги.
Часть 1
ЕСЛИ БЫ НЕ ТЕНЬ, ПОНЯТЬ ФОРМУ ТЕЛ В МЕЛЬЧАЙШИХ ПОДРОБНОСТЯХ БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО.
Леонардо да Винчи
Глава 1. Аделаида, осень 2018 года
Девушка в зеркале смотрит на меня не моргая. Моргать больно.
По щекам отражения струятся слезы, и я сжимаюсь от желания разделить его боль. Ты же должна была знать. Почему ты не предусмотрела подобного?
Хоть она моя точная копия, это не я, – пытаюсь убедить себя.
Я тяну руку к девушке в зеркале, касаюсь кончиком пальца лилового пятна под глазом. Прохладное стекло не дает ощутить жар плоти. Глаз почти не закрывается – такая нежная там кожа. Черный канал слезной борозды будет заживать дольше всего. Кожа здесь хрупкая, в сосудах. Как папиросная бумага – того и гляди лопнет.
Пространство между нами закрывают тени ванной комнаты. Я отдергиваю руку и нащупываю выключатель голой лампочки.
Fiat lux. Да будет свет.
Зеркало словно рама обрамляет лицо девушки. Подкрашивая кисточкой веки, я рассматриваю ее, словно произведение искусства. Внимательно, меняя ракурс. Удерживая ту невидимую натянутую нить между смотрящим и видимым, пока подбираю нужные слова. Чтобы понять.
«Искусство живет в неволе и погибает на свободе», – писал Леонардо.
Девушка в зеркале – произведение искусства. В отличие от меня ей никогда не обрести свободу.
Убираю кисти. Закручиваю волосы наверх и закрепляю разными заколками.
Закрываю глаза и распыляю лак для волос.
Снова нащупываю выключатель.
Fiant tenebrae. Да будет тьма.
Когда я открываю глаза, той девушки больше нет. Есть я.
Выхожу на улицу, и фонари гаснут. На платанах суетятся птицы, медленно кружат золотистые листья. В этом году осень теплая, и деревья припозднились с красками. В воздухе листья кажутся невесомыми, но в руке ощущаются плотными и крупными – больше ладони. Я подбираю двадцать ярких, как солнце, листьев и прячу их в сумку, потом в два раза больше малиновых, помельче, от сумаха, заполонившего один из заросших садов перед выстроившимися в ряд невысокими домиками. Столько же блестящих фиолетовых листьев от соседней декоративной сливы. Это материал, из которого я создам произведения искусства – юбки для дерева, чтобы закрыть место, где ствол встречается с землей.
Осенние кольца из желтых, красных и фиолетовых листьев предназначены для великана-эвкалипта в парке Варнпанга в Северной Аделаиде. Занятие меня успокаивает, укрепляет нервы, и я жду его с нетерпением.
Я вешаю сумку на плечо и достаю большой конверт формата А4. Прохожу короткий переулок и сворачиваю направо. В конце улицы почтовый ящик. Ладонь потеет, и свежие чернила адреса отпечатываются на коже. Можно было послать заявку по электронной почте, но отправка обычной дает мне время смириться с результатом.
Я подталкиваю толстый конверт к щели почтового ящика, пытаясь протолкнуть его внутрь. Металлический зажим, скрепляющий бумаги, цепляется и ломается. Кожу покалывает, капельки пота нарушают тщательную завесу макияжа. Я выдергиваю конверт и обмахиваю лицо. Рядом с галереей есть большой почтовый ящик. Когда я ухожу, накатывает волна стыда, и я слышу девушку в зеркале.
«Ты даже треклятое письмо отправить не можешь».
* * *
У служебного входа в Художественную галерею Аделаиды грудь пронзает тревожная боль. Сегодня пятьдесят пятый день, как я здесь работаю, но каждый раз иду как впервые. Я поднимаюсь по ступенькам.
Пять вещей я вижу…
Радушные суетливые воробьи, лилли-пилли – вечнозеленая вишня, нити испещренной росой паутины между ярко-зелеными листьями, пушистый шарик одуванчика, истертый коврик у двери.
Четыре чувствую…
Ключ в одной руке, конверт – в другой, ремешок сумки давит на плечо, открытая застежка-липучка натирает бедро.
Выпрямившись, я касаюсь ключом панели.
Три слышу…
Гул машин с Северной террасы, шлепанье кроссовок утренних бегунов по тротуару, небрежный щелчок, когда открывается замок.
Два запаха ловит нос…
В художественной галерее запах преднамеренно нейтральный. Если отели и бутики стремятся к фирменным ароматам, музеи и галереи предпочитают, чтобы запахи не мешали любоваться произведениями искусства. Иногда меня беспокоит, что они этого добиваются. Раньше я мало знала о тяге к запахам, о связи запахов, эмоций и памяти. Например, по запаху можно найти утерянное. Когда-то я тщательно стирала футболки и шорты, школьные штаны, простыни, засаленные наволочки, полотенца, носки и шапочки, воротя нос от запаха пота, жира, травы, земли и ободранных коленок, вымывая его, словно желая никогда больше не находить все это.
Первая врач-психиатр предложила вспомнить о приятных ароматах. Не осталось ли у меня каких-либо старинных книг от дедушки и бабушки? Не помню ли я цветы из детства, которые можно посадить, сорвать, поставить в вазу?
«Запах прежней жизни», – сказала она, нарушая правило, которое установила для меня: придерживаться конкретных вещей, а не расплывчатых понятий. Под «прежней» она имела в виду жизнь до того стука в дверь. Стук руки с ногтями, блестевшими изумрудно-зеленым лаком, заставил меня задуматься, подходит ли этот цвет полицейскому, посланному сообщить новости, которые не дай бог услышать ни одной матери.
Я прохожу по коридору, автоматически включая лампы над головой. Открыв кабинет, вдыхаю аромат кедра и воска. Кедром пахнет от японского табурета для ванны, который я выписала из Киото, а древесной смолой и медом – от свечей из Тасмании.
И одно ощущаю на вкус…
Воспоминание. Дикий мед. Блестящий и капающий с упавшего треснувшего дерева. В Квинсленде мы гуляли по тропическому лесу. Сыну тогда было четыре годика, он мчался вперед на разведку; помню ручонки, испачканные медом, – он тянул их прямо в рот. Восторг, когда он предложил мне облизать его пальчики. Безмолвное восхищение, когда мы наблюдали, как крошечные дикие пчелы восстанавливают поврежденный улей. Вкус нектара и карамели на языке.
Я кладу разорванный конверт на стол и беру распечатку – это фотография вышивки, датируемой семнадцатым веком, с которой предстоит работать, – она потребует моего реставраторского мастерства. Вышивке почти четыреста лет, нашли ее в трухлявой водосточной трубе сарая уже не существующего поместья, и, несмотря на состояние ткани, я увидела редкую и замечательную красоту. Наша начальница, Трис, внимательно выслушала мою оценку и упорно боролась за то, чтобы приобрести вышивку для галереи. В тот день, когда мы ее получили, Трис оставила меня наедине с изделием.
Дала мне время и место его распаковать, осмотреть и посмаковать. Насладиться странной близостью и благоговением, которое реставратор испытывает, рассматривая историческую реликвию.
Я представляю себе вышивальщицу семнадцатого века, сидящую на обитом тканью стуле, в туго затянутом под лифом корсете. Вышивка натянута в пяльцах на козлах. Взлетающие рукава сорочки, кружевные воланы, мастерица ловко изгибает руку, вышивая фон серебряной канителью елизаветинским швом. Вверху моток нити, золотистое сияющее солнце. Нитки, которые при свечном освещении переливаются и блестят.
В центре вышивки части двух фигурок в тонких ажурных одеяниях порваны, некоторые фрагменты утрачены. Но даже в таком состоянии картина производит невероятное впечатление. Ощущение, что каждая пуговица, бусинка или цветок с шелковым отливом, над которыми я когда-то работала, подготовили меня к произведению, внесенному в каталог как «Обнимающиеся фигуры». У меня не было сомнений, что это «Посещение». Нежная встреча родственниц, Елизаветы и Марии, Святой и Богородицы. Обе беременны.
Я возвращаю распечатку на письменный стол и снова смотрю на конверт. Могла бы напечатать письмо и отправить прямо сейчас.
Но это не по мне. Мои повседневные дела образуют целую конструкцию, где есть тропа, которая всегда выведет в нужное русло.
Я оставляю конверт и спускаюсь по лестнице в выставочный зал, к древней деревянной статуе, которая одновременно меня чарует и преследует.
В тихом зале лежит вытесанное из древесины распростертое тело. Трупное окоченение кулаков, вздутый живот. Изо рта вываливается распухший язык. Три падальщика приступили к лакомству. Одна ворона сидит на груди, выставив вперед клюв, чтобы снять с языка жирного червя. У ног маячит стервятник с куском мяса в клюве. Еще одна ворона смотрит на меня, словно чувствуя мое волнение. Предвидя мое отвращение, ужас от такой Смерти.
«Смерть, третья из четырех встреч принца Сиддхартхи».
Неслышно ступая, затаив дыхание, я обхожу статую. Подмышки потеют. Хочу видеть эту смерть. Чтобы схватить и остановить опустошение разрушительным прозрением. Ха! Смерть! Я тебя поймала, больше ты меня не перехитришь. Принцу для откровения хватило одного взгляда. В отличие от меня, он постиг зрелище целиком. Но я не чувствую облегчения.
Передо мной просто шедевр. Артефакт. Вытесанный, раскрашенный, отшлифованный буддийскими монахами. Сияющий преданностью. Целостный. Не разорванный на куски, как мой сын.
Из коридора доносятся тяжелые шаги. Миниатюрная Трис не вяжется с гладиаторской поступью. Я вытираю лицо рукавом. Проветриваю мокрую блузку под мышками. Я ношу темно-синие блузки. Каждый день. Чудесная маскировка.
Присаживаюсь на корточки возле деревянного стервятника у ног статуи, будто изучаю новое граффити под его хвостовыми перьями. Кто-то из старшеклассников, пришедших на экскурсию, подрисовал птице элегантный белый анус. Я изучала работу с деревом, и, поскольку реставратор скульптуры в отпуске, придется мне решать, как удалить «художество», не повредив многовековую резьбу. Граффити неплохое. Расширенный задний проход, как его нарисовал бы сам Леонардо. Как цветок из пяти лепестков.
– Агент Сирани говорит, что они пришлют нам «Голову», – сообщает Трис.
Я встаю, и перед глазами мелькают мушки.
Голова Иоанна Крестителя на блюде. Не отсеченная по приказу Ирода после соблазнения Саломеей, а «Этюд головы» (Иоанна Крестителя III), вырезанный художницей Катериной Сирани. Кусок липы, искромсанный, обтесанный, проколотый и тщательно окрашенный, чтобы заставить смотрящего задуматься о силе. О жестокости. О том, почему мы от нее отворачиваемся. Я пыталась заполучить эту работу, с тех пор как пришла в галерею.
Трис подходит ближе, и мне хочется вытянуть вперед руку, чтобы ее остановить.
– Вы чертовски хорошо справились.
Она касается моей руки, и мои пальцы сжимаются в трупном окоченении. Пыл ее доброты пронзает меня словно забитый в дерево гвоздь.
Она видит, что я чувствую себя неловко, и никак не реагирует. Трис слишком уверена в себе. Редкий случай.
Я борюсь с желанием извиниться. Вспоминаю неоднократные инструкции от третьего психиатра. «Про извинения забудьте. Придется выучить новые ассоциации для прикосновений».
При появившемся желании сбить с его небритого лица огромные очки я покраснела от стыда. Без извинений я себя не представляла. С них в моей жизни начиналось так много предложений.
– Когда ее пришлют? – спрашиваю я, зная, что Трис привыкла к моей профессиональной дипломатии и сдержанному восприятию новостей, хороших или плохих.
– Выставка заканчивается через четыре недели.
Трис заметно беспокоится. Если нет проблем с доставкой или таможней, времени достаточно, чтобы скульптура адаптировалась к новым условиям.
Я вижу, Трис забавляет, что я не волнуюсь.
«Голову» представят на выставке, посвященной проявлениям власти. Маслянистая бледность лица, похожие на настоящие фарфоровые зубы в разинутом рту, блестящие ониксовые глаза. В копну черных волос жестоко вбиты гвозди. Все это производит ужасное впечатление. Среди целой армии поразительных, вырезанных из дерева в натуральную величину моряков, бродяг и маргиналов невольно останавливаешься, оглядываясь в изумлении, и сглатываешь ком, поражаясь чувству собственного достоинства каждого персонажа.
Но не по этой причине я нахожу утешение в работах Сирани. И не поэтому хочу «Голову».
– Как назовем выставку? Есть какие-нибудь мысли? – спрашивает Трис. Ей мое мнение не нужно, но мне льстит, что она спрашивает.
– Одни клише и эвфемизмы, – говорю я, выдавливая улыбку.
Трис смотрит мне в глаза, потом ее взгляд скользит по синяку, скрытому косметикой. Я вздрагиваю и пячусь, спотыкаясь о деревянного стервятника. Глухой стук – и птица падает навзничь, задрав негнущиеся ноги.
– Я доложу, – говорю я, огорченная тем, что придется писать отчет об ущербе, причиненном моей неуклюжестью.
Я наклоняюсь, ощупываю птицу. Кажется, цела, но я не могу сосредоточиться. Если бы он видел, что случилось, сейчас бы посыпались оскорбления. Когда он произносил их, изо рта вылетала слюна. Но я не могу раскисать. Пожалуйста, нет, не здесь. Я закусываю щеку, возвращая стервятника на место.
Рядом со мной Трис пытается загладить неприятность. В руке у нее телефон, большие пальцы летают над экраном, затем она запихивает устройство обратно в боковой карман свободного зеленого, как оперенье попугая, платья, расшитого оранжевой банксией и желтой мимозой. Когда-то и я могла бы надеть такое.
– После работы приходите на вечеринку для сотрудников. Отпразднуем! – говорит она, словно раствором, замазывая разговором трещину в тишине. – Расписание выставок пришлю вам по электронной почте.
Я, притворяясь рассеянной, продолжаю возиться с деревянным стервятником.
Когда она уходит, пытаюсь вспомнить, а попрощалась ли я. А она? Так много незаконченных и мимолетных моментов, скрепленных, сшитых, сметанных на живую нитку, в обрывочном воспоминании.
Я подавляю желание окликнуть ее и поблагодарить. Не за новости о главном герое выставки, а за то, что она не такая, как все.
За то, что никогда не спрашивает обо мне больше, чем я готова сообщить. За то, что проявляет интерес, но никогда не сует нос в мои дела. За то, что ей от меня ничего не нужно.
– Что там с новенькой? – слышу, как один куратор спрашивает у Трис.
Я задерживаю дыхание. Не потому, что он спросил, я жду, что она ответит.
– Шуруй отсюда, Майк. Не каждая женщина жаждет тебе отсосать в архиве.
Ответ меня ошарашил. Во-первых, я всегда слышу от нее только ясную и вежливую речь. Во-вторых, так вот чем занимается персонал в архиве. И, в-третьих, ни намека на то, «что там с новенькой» происходит на самом деле и что Трис вообще обо мне думает. Все это мучило меня несколько дней. Какое же у нее сложилось мнение, что она заранее решила меня оградить от «запросов в архив»? Неужели сама там побывала?
Один за другим прибывают сотрудники галереи, а я все еще стою на коленях у ног Смерти, рядом со стервятником. Встаю, отряхиваю воображаемую пыль с брюк, выхожу из выставочного зала и иду через двор в реставрационную мастерскую. Наконец-то установили новый микроскоп, и я могу рассмотреть вышивку детально. Взгляд через объектив не только показывает каждый стежок, но и раскрывает загадочные истории о том, как и почему он был сделан. Для реставратора главное правило – не латать, а понять, что задумал автор. Я изучаю каждый дюйм и делаю пометки о каждом стежке и его состоянии. Когда я заканчиваю работу, небо за окном темнеет. Моя голова между тем тяжелеет, и пустой желудок дает о себе знать.
Я возвращаюсь к себе в кабинет и слышу голоса в комнате для персонала, выплескивающиеся в коридор. Беру слишком полный бокал красного вина, который суют в руку. Когда кто-то предлагает выпить, я представляю камеру пыток, темницу. Мрачную, удушливую комнату, где меня будут допрашивать, а спастись можно только через люк в потолке. Почему ты уехала из Мельбурна и бросила работу в Национальной галерее королевы Виктории? Что за блажь! Зачем приехала в Аделаиду? Замужем? Дети есть? Последний вопрос всегда первым задает женщина.
– Мужа нет. Детей нет, – отвечаю я, а задавшая вопрос безмолвно оценивает, причисляя меня к категории нежизнеспособных женщин.
Но даже это предпочтительнее правды. И поневоле становишься внимательным слушателем. Хотя здесь наступаешь на другие грабли: можно надолго застрять, слушая припасенную кем-то к этому случаю байку. Сегодня это Герберт.
– В прошлом месяце я потерял Энни, – говорит он.
На галстуке у него размазан томатный соус от пирога.
– Мне очень жаль, – говорю я. – Вы давно женаты?
– Никогда не был женат, – отвечает, ощетинившись от предположения, Герберт. – Я говорю о попугаихе, такая была красотка!
«Невелика потеря», – про себя отмечаю я. Однако сравнивать людское горе – величайшее неуважение. Но так и хочется напомнить Герберту. Это птица. Не человек. Не ребенок.
У меня трясется рука. Пальцы слабеют, суставы гнутся, как у старой топорной деревянной игрушки на шарнирах. Бокал выскальзывает. Вино разливается по блузке, пустой бокал падает на толстое ковровое покрытие и остается целехоньким.
– Я слышал, ты сегодня отреставрировала задницу, – кричит мне через комнату Майк.
– А она тут как тут, никуда не делась, – парирует секретарша Дениз, и все покатываются со смеху.
Слишком громко.
Герберт продолжает болтать, пока я промокаю блузку салфеткой.
– Жила у меня двадцать восемь лет, – сообщает он. – Вообще они живут до тридцати пяти. Красавица. Хохолок как солнышко.
Он не видит, что меня трясет, потому что ему не терпится рассказать, как птица старела. А мне хочется ответить, что это не такая уж трагедия. Его попугаиха пережила моего сына на целых десять лет. Сотни недель. Тысячи дней. У меня в душе, оскалившись, рычат друг на друга два волка. Одному хочется, чтобы я вцепилась Герберту в лицо. А другому – чтобы обняла.
Я осматриваю комнату в поисках ближайшего выхода. Ищу путь мимо тех, кто меньше всего будет возражать.
– Меня тронула история Энни.
Уходя, я сжимаю руку Герберта, чувствуя запах нафталина от его рубашки. Запах детства. От маминых буфетов и шкафов, забитых рулонами дорогого итальянского льна и шелка. От коробок под кроватью, набитых обрезками ткани, которые она не осмелилась выбросить. В детстве я пряталась среди них, закрывая руками уши, пока отец злился, что подали чуть теплое картофельное пюре, разбивая о стены тарелки. Позже случайные осколки впивались в босые ноги, когда я кралась на кухню за печеньем.
И вот я уже иду по пешеходному мосту через реку Торренс, или Карравирра Парри, как ее называют местные. Потом по мягкой траве парка Варнпанга. Падаю на колени перед гигантским эвкалиптом и вытаскиваю из сумки осеннее украшение – золото платана, багрянец сумаха, фиолет декоративной сливы. Я одеваю ими основание ствола, шью для дерева яркую юбку. Эфемерному произведению искусства долго не продержаться. Его унесет, разбросает, расчленит, разорвет на части ветер, опоссум или собака. Мгновение восторга – и потеря навсегда.
Дома, сидя в темноте с включенным ноутбуком, я изучаю на экране изображения «Головы». При виде окровавленной бахромы, где лезвие перерубило шею, сжимается сердце.
«Я билась над ней годы, десятки лет, – сказала Катерина Сирани, когда я позвонила ей по видеосвязи в европейскую студию. – Меня поразили слова Крестителя „Никого не обижайте и не клевещите“ и параллели между его миром, захваченным римлянами, и другими народами, борющимися с завоевателями».
В голосе слышалась боль и неустрашимый творческий дух.
Я спросила, как ей удалось добиться цвета плоти в скульптуре, изображающей смерть, но каким-то образом освещенной предшествовавшей жизнью.
– Мое изобретение! – ответила Катерина, заливаясь смехом.
Меня настолько покорили ее сердечность, щедрость и тяга к открытиям, что захотелось оказаться в ее мастерской, когда она взяла ноутбук, чтобы показать рабочее место. Стены расписаны углем и покрыты барельефами, молотки, топоры и стамески разбросаны по скамейкам, бензопилы установлены на настенных креплениях, промасленные цепные пилы развешаны на крюках. Инструменты для превращения дерева в людей. Кругом опилки. Из огромных, наполовину изрезанных бревен возникают люди.
Когда я спросила, откуда берутся идеи, образы для скульптуры, она уверенно ответила:
– Деревянные фигуры пришли ко мне как спасательный круг.
Как давно я не смеялась так самозабвенно, как Катерина Сирани. Как давно не держала в руках спасательный круг?
Когда наш разговор закончился, я растерялась. Я попыталась найти дешевый авиабилет в одну сторону. Мне захотелось ее навестить, пообщаться, заразиться ее ясными убеждениями. Но кредитную карту отклонили. У меня не было ничего: все счета либо заморожены, либо аннулированы человеком, от которого я сбежала.
Заморожено, отменено. Как девушка в зеркале.
Меня тошнит, и я закрываю изображения «Головы». Открываю файл с изображениями Елизаветы, матери Иоанна Крестителя, пролистываю фреску Джотто ди Бондоне, литографии из испанского и немецкого Часословов, гравюру на дереве Дюрера, несколько анонимных фресок и панно, позолоченную скульптуру из древесины ореха, приписываемую Генриху Констанцскому. Изображений ее одной нет. И все произведения относятся к одному и тому же моменту – Посещению. Встрече Елизаветы и ее двоюродной сестры Марии, вынашивающих чудесных младенцев.
Я задерживаю взгляд на картине Мариотто Альбертинелли, масло, дерево. Фигуры в натуральную величину. Как художнику удалось уловить доверительные отношения между женщинами? Какую мать, сестру, жену он любил? Каково это: своими глазами увидеть этот шедевр эпохи Возрождения в галерее Уффици во Флоренции? Почувствовать изумительную возвышенную привязанность женщин друг к другу до событий, которые отберут у них сыновей. Начало жизней. Их «до того, как».
Живот пульсирует, словно второе сердце, я сдерживаюсь, чтобы не положить на него руку. Я понимаю радость беременных женщин на картине. Особенно Елизавету, вынашивающую долгожданного ребенка. Я чувствовала то же самое, когда носила первенца.
Я перебираю все версии «Посещения»: Гирландайо, братья Штрюб, Ливенс, Масип, ищу подсказки к изображениям в вышивке. Подсказки к восхитительным символам, таким как единорог и павлин, которые кажутся скорее языческими, чем христианскими. Там, где стежки порваны или нитки утрачены, обнажилось льняное полотно с едва заметными остатками рисунка. Различаю на нем две обнимающиеся руки. Один и тот же мотив на всех изображениях с Елизаветой и Марией.
Экран телефона вспыхивает: мама. Опять. Палец зависает над экраном.
Жду, пока не включится автоответчик. Нажимаю кнопку воспроизведения.
Три «Перезвони мне». Сначала резко, затем требовательно.
Потом: «Он просто о тебе беспокоится, только и всего».
Ишь, хватается за соломинку – матери названивает.
Я экономила на всем подряд, чтобы нанять машину и выехать из Мельбурна, чтобы отложить на годовую арендную плату. И прочие секретные махинации для устройства на работу.
Вечно тряслась, что он раскроет мой замысел. Я ожидала чего угодно: преследования, уговоров, угроз. Не услышала ничего. Пока на прошлой неделе он не появился в Аделаиде. И пьяный орал у двери. Я его впустила, уступила.
«Он понимает, что тебе тяжело… он тебя любит».
Под «тяжело» она подразумевает, что я сломлена. А под любовью – терпимость.
И хотя я вижу, что она ошибается, внутри меня узлом затягивается стыд.
Просачивающийся, безжалостный стыд, который привел меня, немую, но не слепую, к мужчине, который обязательно напомнит мне о том, как я была надломлена морально. Который подтвердит, что все было бы иначе, лучше, если бы я была другой.
Я увеличиваю масштаб картины Альбертинелли, где Елизавета сжимает руку Марии. Я хочу погрузиться в историю этих женщин. Хочу, чтобы меня держали за руку, как Елизавета Марию, хочу обрести новую силу.
«Сколько женщин получают от хирурга предложение руки и сердца?» – последнее сообщение моей матери.
Девушка в зеркале согласилась бы на этот брак. Начинала бы каждое предложение с «извините». Жила бы как в тюрьме. Умерла бы от свободы. И если я не перестану слушать, умру вместе с ней.
Глава 2. Флоренция, 1497 год
На Понте-Веккьо давка, люди толкаются и кричат. Как и мы, они стекаются на площадь Синьории, чтобы увидеть гору сокровищ, которую безумный монах сожжет на Костре тщеславия.
Обутая в башмаки не по размеру, я скольжу и спотыкаюсь на неровном мощенном булыжником тротуаре, стараясь поспеть за тетушкой Зией Лючией, которая и не тетушка мне вовсе, а троюродная сестра по матери. Лючия приехала сегодня рано утром, в редкую для Флоренции метель, без предупреждения, без шляпы. Через плечо у нее висит приоткрытая тканевая сумка, сверкающая дикими крокусами, из которой торчат тонкие кончики трех кистей.
– Замуж тебя еще не выдали? – спрашивает Зия Лючия.
– Мне только девять, – отвечаю я, делая два шага там, где она один.
Мастерские вдоль старого моста – настоящий парад ремесел: шипение кузни, где куют инструменты; крики торговцев рыбой, которые нахваливают улов; поток нечистот, сбрасываемых в Арно; бочки, полные требухи; дубильные красители, моча и несвежее пиво, которыми размягчают телячьи шкуры.
– Presto! Presto![1] Антония! – зовет Зия Лючия. Я отстаю. Не сбавляя шага, она отбрасывает назад руку, подгоняя.
Я оглядываюсь на плетущуюся за нами мать, похожую на призрак, сухощавую, с тонкими губами в складках морщин. На ней мешковатое платье, на котором больше заплаток, чем швов.
Не то что стремительная Зия Лючия, которая вышагивает сквозь толчею без шляпы, в развевающейся золотистой шали, похожей на солнечный луч.
Я отворачиваюсь от матери и, протиснувшись сквозь толпу, хватаюсь за протянутую руку Лючии так же, как в проповедях падре Рензо Святой Петр цеплялся за руку Христа.
– Отца твоего я знаю как облупленного, – говорит Лючия. – Для него и брак – лишь выгодная сделка. Не сомневаюсь, что он замышляет раннюю помолвку.
– Мне этого знать не положено, – говорю я, осмелев от ее смелости.
Вообще-то я слышала обрывки разговора родителей. Знаю, что строятся планы.
– Жених хоть именитый? – спрашивает она.
– Он рисует, – отвечаю я.
По крайней мере, это я расслышала.
– Художники могут заразить оспой от путан.
Она замолкает и смотрит, поняла ли я. Я киваю. Про шлюх я знаю.
– Обязательно проверь, нет ли шанкров, – говорит она. – На pisello.
Я заливаюсь краской при мысли об осмотре мужских половых органов.
На дороге, ведущей к собору Санта-Мария, народу еще больше. Ювелиры открывают мастерские, щелкают ставнями. Чеканят, пилят, делают потиры и фронтоны для алтарей. Мужчины сжимают мехи, разжигая огонь, другие склоняются над верстаками, наклоняют и толкают инструменты для резки, пайки и ковки, эмалирования и полировки.
На улице Ваккеречиа толпа замирает, но Лючия идет дальше, и никто не смеет стать у нее на пути. Я силюсь представить, как мама прижимает руку к моему лицу, ограждая от пота и смрада толпы, жира и дыма, от пыли старых плащей, и прячу лицо в плаще Зии Лючии, вдыхая смесь белого мускуса, сосновой хвои и оливкового масла, вкус которого остается в горле.
На площади Синьории мама догоняет нас. Яростное выражение лица у нее сменяется недоверием, когда на площадь выходят богатые дамы с шелками в руках. Сюда же подвозят и выбрасывают картины в позолоченных рамах и красивые скульптуры всех размеров. «Соблазн впасть в грех!» – так в ярости проповедует Савонарола.
– Все сожгут? – спрашиваю я, видя, как мужчина срывает с плеч жены парчовый плащ и кидает его в тележку, просевшую под тяжестью огромного овального зеркала.
– Dio mio! В какой ад мы попали! – восклицает Лючия. – Говорят, Боттичелли самолично бросит в костер картины с великолепными обнаженными натурами. Представляешь? Отчего тогда уж не сжечь сердца, чтобы не любили пылко!
– Che orrore! – говорит мать, от потрясения замерев на месте.
– И правда ужас, – повторяет Лючия.
Мы протискиваемся вперед.
Передо мной и надо мной громоздится башня высотой локтей восемь – как четыре человека, поставленные друг на друга. Флорентийская знать привозит целые телеги добра, пополняя кучу. Игральные карты, арфы, лютни, цитры и книги. Цимбалы, косметички, зеркала, духи и парики прямо с диадемами, накладки, отдельные локоны.
– Мариэтта, смотри, как бы и у тебя с лобка парик не содрали! – говорит Лючия моей матери и, запрокинув голову, откровенно хохочет.
Громко звонит колокол, и сторонники Савонаролы проповедуют народу: «Флоренция станет новым Иерусалимом! Пусть расточительный Папа Александр покается в своих грехах!»
Шепот и гром аплодисментов. Кто осеняет себя крестным знамением, кто целует распятие, неся его как талисман.
– Савонарола погибнет от рук тех, кто сейчас его превозносит, – заключает Зия Лючия, бросая на меня неистовый взгляд. – Capisci?[2]
Я киваю, хотя ничего не понимаю.
– Не могу смотреть на то, как все это погибнет в пламени. Пойдемте отсюда! – зовет Лючия, и мы выбираемся из толпы.
Небо, затянутое серой давящей пеленой, предупреждает о метели. Руки и ноги стынут от холода.
– Babbo поди заждался, – тревожусь я.
С тех пор как отец открыл таверну, у него участились приступы ярости.
– Я обещала ему torte di mele синьора Бончианни.
– Пирог с яблоками? В феврале-то? – спрашивает Зия Лючия. – In bocca al lupo. Ни пуха ни пера!
– Crepi, – отвечает мать. – К черту.
Мы выходим на улицу Порта-Росса, идем мимо пятиэтажного здания торговца шерстью Давицци, потом сворачиваем на улицу Торнабуони. Торговцы тканями и портные все в работе. В воздухе витают запахи камфоры и нюхательной соли, оберегающие роскошные ткани от моли.
– Выше нос, Мариэтта, – подбадривает Лючия, чувствуя тревогу приотставшей матери, когда та встречает купчих, разодетых в шелка, отороченные золотом, с утянутыми кружевными корсажами. – Те, кто хмурит брови при виде наших платьев, не станут рисковать проклятием Савонаролы, прогуливаясь в таких нарядах.
Лючия берет маму под руку, но та сразу высвобождается под предлогом, что должна держать полы плаща обеими руками. Тогда Лючия хватает за руку меня, и я не сопротивляюсь.
– Ты его любишь, этого художника? – заговорщическим тоном спрашивает Лючия.
– Zitta![3]
Мама бросает на меня такой острый взгляд, что можно лук резать. Потом обращается к Лючии:
– Не лезь не в свое дело. Не накликай беды.
Я опускаю глаза, не в силах вынести допрос.
– Allora![4] А ей нравится другой! – восклицает Лючия.
– У падре гостит юный племянник, – поясняет мать. – Она думает, я слепая и не замечаю ее сумасшедшей страсти.
Я сжимаюсь, когда мама открывает то, что, мне казалось, никто не видит.
– Кто он, этот племянник? – спрашивает Лючия, уперев руки в бока.
– Его зовут Эудженио, – отвечает за меня мама. – И она его не интересует.
Ее замечания, как всегда, поражают, как острый камень в сердце.
– Если бы мы надеялись на внимание таких Эудженио, то умерли бы целомудренными, как Мадонна.
Еще один взрыв смеха. С карниза взлетают голуби.
Клубится рой переливающихся снежинок. Лючия разводит руки в стороны и кружится, снежинки целуют ей лицо, теряются в темных локонах.
– Летом пой, зимой танцуй! – восклицает Лючия.
Я дрожу под тонким плащом, и она притягивает меня к себе, растирает спину, шепчет на ухо:
– Хочешь увидеть красоту снежинки – выходи на мороз.
* * *
На площади Санта-Мария-Новелла мы восхищаемся великолепным фасадом церкви. Когда-то непримечательный, теперь он сверкает замысловатыми узорами из ярких квадратов, розеток и завитков на зеленом и белом мраморе.
– Леон Баттиста Альберти – мастер пропорциональности, – произносит Лючия, как будто я должна запомнить. – Видите, длина основания равна высоте?
Она отмечает линии фасада пальцем.
– А завитки – уловка, чтобы отвлечь от диспропорций.
Даже мама в восторге.
Облака отступают, и на фасад падает солнечный свет; от белизны мрамора и блеска свежего снега мы щуримся.
– Что такое белый цвет? – спрашиваю я, и у меня в голове вспыхивает необычная искра.
– Дурацкий вопрос для девочки, – говорит мама.
– А если бы спросил мальчишка, то умный? – улыбается Лючия.
– К чему вообще такие вопросы? – хмурится мама. – Еды на столе от них не прибавится.
– Для художника вполне подходящий, – возражает Лючия. – Когда дело касается живописи, понимать значение белого важно. Он заряжает холст энергией и либо вдохновляет, либо портит. Начало определяет результат!
Мама фыркает.
– Тебе что, не нравится, что дочь способна мыслить? – спрашивает Лючия и добавляет, толкая мать локтем: – Вряд ли разум достался ей от отца.
И хотя мать прикрывает рот платочком, я вижу, как она расплывается в улыбке.
По дороге домой даже мама будто восстановила силы, возможно полагая, что Babbo уже ушел в таверну. Мы втроем идем рука об руку, обсуждая лучший рецепт кантуччи, сладкого печенья с орехами, которое едят, макая в вино. «Пекла бы его дважды в день!» «Или один раз подольше и быстро остудила!»
Внизу тишина. Мы поднимаемся по лестнице в кухню, открываем дверь, и нас обдает теплым воздухом.
Отец сидит за столом с салфеткой на шее, зажав в кулаках ложки, и ждет обещанного пирога.
– Тут только свиней кормить, – говорит он, проводя кулаком по муке, левый глаз у него закрыт, и это значит, что он уже пьян.
Руки и ноги у меня немеют, и я вижу, как углубляются на лице матери морщины.
Я выхожу вперед, загораживая мать.
– Ci penso io. Я сама разберусь.
Отец вскакивает и бросает деревянные ложки. Они ломаются и падают со стола на пол.
– И всего-то попросил яблочного пирога.
Он поднимает стул и запускает им в стену. Стул с треском раскалывается, ножка летит назад, и отец хватает ее и бросает в огонь.
Раньше я гордилась, когда другие говорили, какой сильный у меня отец. Как он боролся с вепрем, оставившим ему на бицепсе рваный шрам.
Мать отшатывается от стола. Лючия наклоняется к сумке, вытаскивает горшочек и сует мне в руки.
– Babbo!
Я говорю громко и смело, преодолевая страх.
– Сюрприз хочешь?
Сдерживая дрожь в руках, я протягиваю ему горшочек.
Отец поворачивается ко мне и смотрит мутными глазами. Он осторожно берет горшочек, будто птаху.
– Что это, джем?
Он продавливает вощеную бумагу и сует внутрь палец, проталкивая его потом сквозь влажные губы.
– О боже, да это мед.
– Не просто мед, – говорит Лючия. – А мед из Умбрии.
– Ну конечно! – соглашается он, не обращая внимания на Лючию и глядя на меня, будто решая загадку. – Хороший сюрприз, mia pulcina!
«Цыпленок». Так он меня называет, когда я его удивляю. А не слышала я прозвища с тех пор, как с невыносимой болью в сердце принесла домой три утиных яйца. Уж как птица била меня крыльями и отчаянно кричала.
– Ну хоть ты умеешь мне угодить, – говорит он.
Облегчение сменяется стыдом, потому что каждый комплимент мне – это укор матери. Когда он наконец тащится в таверну, мы, не говоря ни слова, прибираем кухню.
* * *
В старой бабушкиной комнате я расчесываю Лючии волосы, а она быстро и уверенно рисует углем. От бушующего камина поднимаются в небо черные чешуйки.
– «Темноволосая Венера», – говорит она, показывая мне изображение, где она нарисовала меня с кистью в руке. – Bella, si?[5]
Портрет подробный, словно я смотрюсь в зеркало. Хотя вижу лишь неприглядную правду, которую выдают мои обгрызенные ногти.
– А это что?
Я указываю на отметку внизу рисунка. Небольшой треугольник, вершиной вниз, с закручивающимися листьями по бокам.
– Подпись, – объясняет Лючия. – Рисуя этот знак, я обещаю, что больше не буду дорисовывать или что-то менять. Художник вечно не знает, когда остановиться.
Порыв ветра через открытое окно гасит свечи, пепел с улицы засыпает бабушкину постель. Лючия вскакивает и закрывает створки. Я бросаюсь к постели, чтобы убрать попавшие горячие угольки, не то займется пожар.
– Савонарола поплатится, – говорит Лючия, закрывая задвижки. – Это Флоренция! Верность переменчива, как рыба в реке.
Она снимает с шеи цепочку, на конце которой миниатюрная фляжка из стекла и эмали, и откручивает пробку. Комната наполняется ароматом цветов шиповника.
– И что нам беспокоиться о сожженных шелках? – пожимает плечами она. – Когда у нас тут розы.
Пятнадцать месяцев спустя за Лючией приезжает карета. В черных тучах над головой парят стрижи, и летнее солнце стоит высоко над Флоренцией. На площади Синьории рабочие строят новый костер.
Карета увезет Лючию за стены Флоренции, а на костре сгорит до костей преданный суду еретик Савонарола. Мне сказали, что Лючия больна и что монах задохнется от дыма, прежде чем почувствует боль. И то и другое, конечно, ложь.
В бабушкиной комнате на табурете сидит Лючия. Я в последний раз расчесываю ей волосы, пока ее ловкая рука рисует женщину, баюкающую птенца. Рыхлые и мягкие перья нарисованы аккуратно и точно.
Лючия поворачивается ко мне.
– Продолжай задавать вопросы, – говорит она, и между ее бровями проступает бороздка. – Что представляет собой белый цвет? Такая загадка! Открытия совершаются только в том случае, если ты осмелишься задавать вопросы.
– Я знаю, что ты не больна, – говорю я смело, как научилась у нее.
Я вижу, как округлился у нее под тонкой ночной рубашкой живот.
– Не больна, но скорее слишком стара. – Она проводит рукой по животу. – Для этого старовата.
Меня возмущает меланхолия в голосе. Вылитая моя мать, а не Зия Лючия.
– Святая Елизавета была старой, когда родила Иоанна, – вспоминаю я историю рождения покровителя Флоренции.
Его мать была стара, а отец и того древней.
Лючия обводит рукой мое лицо.
– Piccolo bambino[6], познакомься с Зией Пульчиной.
Она берет меня за руку и прижимает ее к животу.
Я лопаюсь от гордости при мысли, что стану тетей. И мы обе взвизгиваем от восторга, чувствуя сильный толчок мне в ладонь.
– И мать не обвиняй, – продолжает Лючия, поднося к моим волосам расческу.
– В чем?
Я замираю от стыда, что не понимаю.
– В том, в чем тебе захочется ее обвинить, – отвечает она, в последний раз наполняя комнату теплым смехом.
По мостовой бьют копыта. Лючия уезжает. Я изо всех сил машу ей вслед, а мама выпрямляется, скрестив на груди руки и сжав кулаки. Лючия не оглядывается.
– Зия Лючия говорит, что я буду тетей ее ребенку, – говорю я, понимая, что надо промолчать и притвориться, что не знаю, почему она уезжает.
– Тетей? Невозможно, – сомневается мать. – Вы от силы кузены.
С площади Синьории раздаются одобрительные возгласы. Babbo там. Он вышел из дома трезвым, взволнованным, собирался зазывать толпу в таверну. Сегодня впервые за год, а то и больше она останется открытой после заката.
– Может, будет открыта всю ночь, – объявил он, уходя.
Тлеющие угольки взмывают к небу. Обугленные кости Савонаролы выуживают из пепла и бросают в Арно. Толпа марширует и ревет.
Я скучаю по Лючии, по ароматам шиповника, белого мускуса и едкому хвойному запаху, который я теперь знаю как льняное семя, используемое, чтобы подавить вонь горящей плоти. По глазам, обращенным ко мне, так непохожим на мамины, ярким, как рассвет на реке на фоне черного от пепла неба.
На следующее утро на кухне мама бьет меня по пальцам.
– Тесто для хлеба пересолила! Где у тебя мозги? Под подушкой?
Даже когда каждое утро я делаю одно и то же, сколько себя помню, все не так да не этак.
– Оставляй больше жира на свинине! Неужели нельзя очистить айву, не выбрасывая мякоть?
Она снова бьет меня по рукам.
– Руки не оттуда растут, да в облаках витаешь. Тебе место на ферме, а не на кухне.
Она выхватывает у меня из руки нож.
– А Зия Лючия говорит, что я умная! Мне бы такую маму!
– Пошла вон! – говорит мама, показывая ножом на дверь.
Я выбегаю из кухни, скользя башмаками по неровному тротуару. Лючии давно нет, городские ворота за ней закрылись.
В церкви Сан-Микеле-алле-Тромбе я молюсь на ступенях алтаря, пока от холодного мрамора не начинают ныть колени.
– За что она меня так ненавидит? – спрашиваю я Господа и Деву Марию.
Может, за то, что знает: скоро уеду и я. Брошу прокопченные стены кухни, въевшиеся в штукатурку запахи. Брошу таверну, похожую на пещеру, где в каждом углу таятся тени.
Минуточку (ит.).
Замолчи! (ит.)
Малыш (ит.).
Хороша, да? (ит.)
Понимаешь? (ит.)
Скорее! Скорее! (ит.)
Глава 3. Хеврон, 41 год до н.э.
Объявление о моем предполагаемом браке с Захарией из рода Авия приходит в тот же день, когда Иудея содрогается от известия о другой пугающей помолвке: последняя царевна Хасмонеев, Мариамна, обещана правителю Ироду. Но моя помолвка не такая, как у нее, ведь я выбрала мужа задолго до того, как его для меня предназначили.
Над Хевроном собирается гроза, полыхают молнии. В пасмурном свете ярко белеют известняковые холмы. Imma[7] поднимает голову и бормочет молитву. Мать всегда хмурится, когда просит благословения. У нее в руках деревянный поднос, на котором инжир в меду и кувшин с пряным вином. Пока она идет через открытый двор в дальнюю комнату, где собрались мужчины, я крадусь по каменной лестнице из нашей спальни и выбираюсь через конюшни. В стойлах блеют козы, мычат и фыркают коровы. Мать подумает, что они боятся грозы. Одна, две жирные капли падают в пыль. В сгущающемся воздухе от каменных стен пахнет мокрым песком. Виноградники ждут дождя, мужчины с мотыгами на плечах с надеждой смотрят в небо. Но буря сухая, только молнии и гром.
Я плотнее закутываю голову мафорией, подтягиваю тунику до колен и бегу вверх по склону горы. Добежав до вершины, воздеваю руки к небесам, сильный ветер развевает тунику, ткань хлопает по телу, и я содрогаюсь от волнения, что стою на вершине одна, а в это время мужчины сидят кружком, черпают лепешками нут и оливковое масло, оживленное сумахом. Потягивают вино и решают мою судьбу.
Наш с Захарией свадебный пир будет не столь роскошным, как у принцессы Мариамны. Там столы прогнутся под амфорами с вином, рыбой, фаршированной изюмом, там подадут и жареного теленка с пузырящейся, намазанной маслом кожей. Поговаривают, что этот брак защитит царский род Хасмонеев, но до сих пор Ирод не щадил никого. От мысли о том, как его огромная тень нависает над принцессой, у меня щемит сердце. Сколько древнейших родов прервал его меч. Успокаивает одно: если мой муж будет ждать двенадцать месяцев, чтобы взять меня в жены, то Ироду придется ждать дольше. Принцесса достигнет совершеннолетия лишь через шестьдесят месяцев. Я молюсь, чтобы будущий муж не лишил ее того, чего хочет, раньше, чем получит на то право.
Над деревьями Хеврона, дубами и теревинфами, сверкают зарницы. Не этих ли деревьев касался Авраам? И рубил Sh’lomo[8]? Трепетали ли от радости их листья, услышав звук арфы Давида? Я думаю об этом, глядя, как качаются деревья, упруго сгибая огромные стволы. Из них делают повозки и лодки – на что только не идет крепкая древесина, где только не используется, но сейчас она гнется и шатается, почти касаясь ветвями земли, уступая грозе.
Imma не велит мне называть это чудом. Подобные слова подрывают помыслы Владыки мира, который создал все очень продуманно, с определенной целью. Но зрелище настолько трогательно, что других слов я не нахожу.
– Упрямее египтянки, – проворчала мать, когда я однажды рассказала соседу о тайных походах в грозу. – Ни капли уважения, только позоришь меня.
Abba[9] старался ее успокоить.
– Девочка любознательная, независимая, – защищал меня он. – Ну и умная.
– И этот ум огрызнется, когда надо будет поклониться, – отрезала мать.
В тот же день abba позвал меня погулять, хотя imma бурчала и возмущалась, что жернова сами пшеницу не перемелют. Мать мы с собой не взяли. Мы поднимались по склонам гор и холмов, шагали через равнины и рощицы, пока не достигли деревьев, с которых каскадами ниспадали гроздья красных плодов.
– Обычно смоковница чувствует себя как дома на южных прибрежных равнинах, – заметил отец, сорвав лист и выдавив из него млечный сок. – А эту редкостную рощицу поддерживает теплый местный климат и грунтовые воды.
Он похлопал ладонью по толстому стволу, сорвал спелый инжир и предложил его мне.
– Редкая и вроде бы неуместная вещь, Элишева, часто оказывается сокровищем.
На небе сине-белые всполохи. На отдаленном хребте от удара молнии взрывается дерево, и я изо всех сил молюсь о скрытой гибкости растений, дабы и я, выйдя замуж, нашла в себе благодать преклоняться, изгибаться и повиноваться ветру. Мать предпочитает приводить в пример воду. Не ветер и лес.
Однажды мы два дня шли по пустыне к скалам Эйн-Геди. Отец настаивал, что нужно навестить больного дядю, который в надежде на излечение пересек пустыню и дошел до Соленого моря.
– Смотри, как вода уступает земле.
Мать тонким пальцем указывает на зубчатую белую кайму берега с толстыми корками морской соли.
Ей хотелось, чтобы я восхищалась водой, словно великой поэмой о силе и гибкости. Но меня больше интересовали горы по ту сторону моря, отражавшиеся в перевернутом виде в непотревоженной глади.
На вершине хребта волосы в заряженном воздухе встают дыбом. Деревья кружатся и раскачиваются, как танцующие девушки Силома под дудки и тимпаны.
Вокруг меня порхают облака семян одуванчика, дикого растения с горьковатыми листьями, желтые цветы которого ковром укрывают землю, приводя в бешенство сражающихся с ним работников.
Угодить Владыке мира можно, лишь не допуская сорняки в виноградники. Если лето теплее и суше, чем обычно, яркие лепестки сворачиваются за ночь, как сложенные в молитве пальцы, чашелистики отгибаются, и на свободу вырывается пушистая головка семени. Я кружусь среди порхающих семян, их мягкие кончики путаются у меня в волосах.
– Они словно детские души, оторвавшиеся от большой души, – однажды сказала savta, моя бабушка.
– Не сейчас, но скоро! – сообщаю я семенам, воображая, что одна из детских душ выбрала меня.
Когда накануне новолуния ко мне прилетел первый ангел, я пыталась рассказать об этом матери. Она ничего не ответила, просто сунула в руки порванную тунику для починки. Передала иголку с ниткой с таким видом, будто я выдумала этого посланника, который провел сияющей во тьме рукой по щеке, оставив мурашки на коже, и молча сообщил, что мой брак благословенен.
– Можно мне подняться на вершину горы? – спросила я, рассердившись на ее сомнения, на ветер, завывавший снаружи, и на то, что она оставит просьбу без внимания.
– А кто будет месить тесто? Козы? – ответила она.
Но я ясно слышала и другие слова, невысказанные: «Девчонка, знай свое место».
Отбросив тунику, я мысленно ответила: «Я смоковница, которая растет в горах».
Читать мысли, как я, она не умела, но неповиновение, видимо, почувствовала, и этого было достаточно. Отправляясь в кладовку за пшеницей, она повернулась ко мне, и на какое-то мгновение мне показалось, что она позовет меня в объятия.
– После обручения abba не станет потакать твоим глупым прихотям.
Мать приложила обе ладони к пояснице, облегчая боль, от которой страдала, как мне сказали, с самого моего рождения. Жест походил на жалобу. Мое появление на свет для нее скорее обуза, чем подарок. Головная боль, а не восторг.
На закате ветер меняет направление. Я оглядываюсь на тусклый свет глиняных ламп в доме. Вскоре меня позовут, чтобы дать согласие и принять обещание грядущей свадьбы. Через шесть месяцев напишут k’tubta – контракт, в котором Захария обещает мне еду и кров, а также брачные отношения мужа и жены для рождения детей.
Я читаю мысли матери, обращенные ко мне, и понимаю, что надо вернуться. Она позовет меня, когда мужчины договорятся, но ждать осталось недолго. Я иду, и ветер дует мне в спину.
У восточной стены дома я взбираюсь по лестнице, которую оставила, чтобы незаметно вернуться наверх. Там служанка Бейла перетряхивает спальные матрацы. Когда я влезаю через узкое окно, она испуганно вскрикивает. Скоро я в такое окошко не пролезу. Я молча прикладываю палец к губам, и она понимающе кивает. Подзывает меня к табурету и отряхивает с туники семена одуванчика и грязь с ног.
Мы с Бейлой одногодки и втайне от моей матери – все равно запретит – дружим.
– Мать меня не звала? – спрашиваю я.
– Ушла за хворостом, – отвечает Бейла, заплетая мои растрепанные бурей волосы в аккуратную косу.
Мне стыдно: сбор хвороста входит в мои обязанности, надо было пойти с матерью.
Я крадусь вниз, через двор, и вижу, как отец что-то обсуждает с мужчиной, который станет мне свекром. Они сидят, склонившись друг к другу, подперев подбородки руками, и согласно кивают. Еще несколько шагов, и я останавливаюсь. За спиной своего отца стоит Захария; разговор, похоже, ему наскучил, или он о чем-то замечтался. Выражение его лица не меняется, и мне интересно, заметил ли он меня. Я двигаюсь дальше, и он следит за мной.
– Ты влюблена? – однажды спросила я кузину Аду, когда сидела с ней в день ее помолвки.
– Глупышка!
Она взъерошила мне волосы, а я шлепнула ее по руке.
– Ты ведь знаешь, любви там нет и в помине.
Мне хотелось ей рассказать, что я влюблена с тех пор, как мне исполнилось восемь. Что я следила за любимым, когда они с отцом работали на винограднике. Захария уже был мускулистым мужчиной с бородкой, рыхлил мотыгой почву между виноградными лозами, выкапывал случайно проросшие семена горчицы и руты. Я пряталась. Наблюдала из-за раскидистого куста каперса, который растет в трещинах между камнями террасы. Осторожно, чтобы не зацепиться за крошечные колючие шипы, парные у основания каждого листа. Иногда оставляла для них воду с цератонией и мятой, ставила рядом с инструментами пряное вино, пока они собирали фрукты или расчищали участки от щебня и камней для новых посадок. Прежде чем пить, он вытирал лоб ладонью и осматривал террасы в поисках оставившего дары.
Однажды я вышла из укрытия. Он помахал мне. Но когда бросилась бежать, мафория, накидка, зацепилась за шипы и упала с головы. Стыдоба. После этого я не возвращалась на виноградники целых три месяца.
– Я выйду за тебя замуж, – шептала я.
Но так, чтобы он не услышал.
– Сама свадьба не так важна. Главное то, что будет дальше, – сообщила Ада, пока я угрюмо молчала. – Помнишь Идру?
Из печали меня выводит тревожное напоминание о тете Ривки, Идре. Она не родила, и муж ее прогнал.
– Жена должна родить мужу детей. Молись, чтобы стать матерью, от тебя этого ждут, иначе получится как у Идры.
Захария склоняется к отцу и, не сводя с меня глаз, что-то шепчет ему на ухо, потом исчезает из виду.
Я пробегаю через двор и прижимаюсь к затененной стене около кладовки. Ветер стихает, и последние ночные насекомые заводят привычный стрекот. Слышен только этот звук да тихий шепот мужчин.
– Мир тебе, Элишева.
Он у меня за спиной.
Встречаться тайком нехорошо, и его дерзость меня волнует и тревожит.
– Мир тебе, – отвечаю я на приветствие.
– Я всегда думал только о тебе.
Буря проходит мимо, напоминая о себе отдаленным раскатом грома.
Он хочет, чтобы я подала знак, что понимаю. Что я для него всегда была первой и единственной. А мне хочется сказать, что это я его выбрала. И сказала бы, да задумалась о податливом, гибком дереве и промолчала.
Где-то неподалеку кричит волчица. От ее зова по коже пробегает холодок. Зверь исчезает в небольшой пещере в горах, но я успеваю заметить распухшие соски у нее на животе. Тонким свистом и визгом она зовет детенышей. Я тоже жду ответа. Но его нет.
Захария протягивает руку, и я отстраняюсь.
– У тебя что-то на щеке, – говорит он, указывая пальцем.
Я щупаю лицо. Палец так близко. Кожу покалывает, я трепещу, встречая его тепло, как было с ангелом. Но он не прикасается ко мне. Я провожу рукой по щеке, и Захария наклоняется, чтобы подобрать невидимку. На его пальце одинокое семечко одуванчика.
Захария зажимает семечко большим и указательным пальцами и подает мне. Я в панике оглядываюсь: вдруг мужчины нас заметят. Или в самый неподходящий момент появится мать. Его рука зависает в воздухе, между нами.
Я смущенно беру семечко, подумывая разжать пальцы и сдуть его.
Но от маленького семечка исходит тепло. И снова кричит волчица – на нарастающей, печальной ноте, в ответ раздаются короткие взвизги.
– Сомневаюсь я, что Ирод любит принцессу, – замечаю я, выдерживая взгляд Захарии, хотя мать всегда говорит, что женщине следует потупить глаза.
Но мне хотелось показать, что я слежу за событиями. И что у меня на этот счет свое мнение.
Он склоняет голову набок.
– Мне трудно поверить, что ты в чем-то сомневаешься, Элишева из рода Ааронова.
Со стороны мужчин слышится взрыв смеха. С формальностями покончено. И я с болью чувствую, как Захария переключает внимание на другое.
– Sh’lama, ḥavivta.
Он уходит.
Ḥavivta.
Грудь набухает, мысли скачут в головокружительном восторге. Он назвал меня «любимой». Никогда я так не задыхалась, даже прибежав с высочайшей вершины Хеврона, чтобы оказаться дома раньше матери. И теперь, не сдвинувшись с места, будто пронеслась бегом до гробницы Авраама и Сары. Возбужденная его словами, я бы и еще раз пробежала это расстояние.
Я кручу семечко одуванчика кончиками пальцев. Оно как детская душа, вырвавшаяся от одной великой души. Одни приживаются в этом мире, другие не задерживаются. Как мои сестры-близнецы Бабата и Берурия, которые прожили всего шесть дней.
От неизбежного я краснею. Через двенадцать месяцев меня поведут к дому Захарии в факельном шествии. Мы поженимся и под шкурами совершим другое таинство – в созревшем женском чреве зачнем ребенка.
Я скольжу вдоль стены к двери, чтобы тоже их услышать. Теперь, когда дело сделано, к непринужденному разговору присоединяется Захария.
Я прижимаю семя к указательному пальцу и подношу к губам. Дую. Ворсистый конец взъерошивается, но прилипает.
– Элишева? – зовет мать.
По двору слышится шарканье быстрых ног, приглушенный топот сандалий по каменной лестнице наверх.
– Шева? – зовет она меня.
Я дую на палец. Ворсистое семя остается.
– Куда подевалась эта девчонка? – спрашивает мать Бейлу.
– А что, ее нет? – переспрашивает Бейла, выигрывая время, пока я убегаю через парадные ворота и вхожу через конюшни, создавая впечатление, что мать потеряла меня во время прогулки.
Я прячу семя под поясом, обвивающим тунику. Пусть остается, если хочет.
После ужина я рано ложусь в постель. Словно сырые простыни, кожу обволакивает влажный вечерний воздух. За деревней в предгорьях резвятся шакалы. Трава отдыхает, ее нити серебрятся в лунном свете. В деревне читают молитвы на ночь. Перелетные семена одуванчика накрывают землю. Одни заблудились в кустах, другие застряли между камнями или приземлились на тропинки и затоптаны.
Я выдергиваю из пояса семя одуванчика. Тело пронизывают незнакомые ощущения. Пусть другие семена падут, где угодно. Мое семечко меня нашло.
Может, наш ребенок появится в первый же год. Может, даже мальчик.
Соломон (арам.).
Мать (арам.).
Отец (арам.).
Глава 4. Флоренция, 1503 год
Я бегу по Виа-делле-Оке и Виа-Сан-Микеле, злые слезы слепят мне глаза. Сколько раз я в ярости убегала от мамы? От ее взгляда: что я делаю на этой земле? Она всегда смотрела на меня так, словно мое присутствие ей было невыносимо. Как больно может ранить взгляд. Он словно иссушает. Будто я разрушила жизнь матери.
Прошло пять лет с тех пор, как уехала Зия Лючия, а я все вспоминаю, как мы шли по улице и Лючия держала меня за руку. В письмах я рассказываю ей о мраморных и бронзовых статуях в нишах церкви Орсанмикеле и о том, как их, словно обнаженных преступников, везли по площади, где в день отъезда Лючии заживо сгорел Савонарола. Хотя Лючии нет рядом, она помогает мне найти свое место в этом мире. Мире за стенами Флоренции.
Улицы кишат торговцами, мои ужасные туфли скользят и лязгают, когда я уворачиваюсь от тележек с молоком и протискиваюсь между уличными пекарями, продающими хлеб. Я тяжело дышу всей грудью, а плечи дрожат от холода и горят от стыда. На мне лишь простая льняная гамурра – плащ остался висеть на крючке. С гор дует ледяной ветер, но не охлаждает правую руку, пылающую желанием дать матери пощечину.
Башня Пальяцца возвышается над соседней церковью Сан-Микеле-алле-Тромбе, посвященной Святому Михаилу и названной в честь городских трубачей, которые когда-то здесь жили. Но сегодня фанфар нет, я несусь через площадь и изо всех сил толкаю двери. Они распахиваются, я вдыхаю запахи церкви – олифы и ладана. Синьора Оттолини шаркает к алтарю, окутывая меня ароматами фиалок и жасмина.
Мне стыдно входить в це
