автордың кітабын онлайн тегін оқу Астра
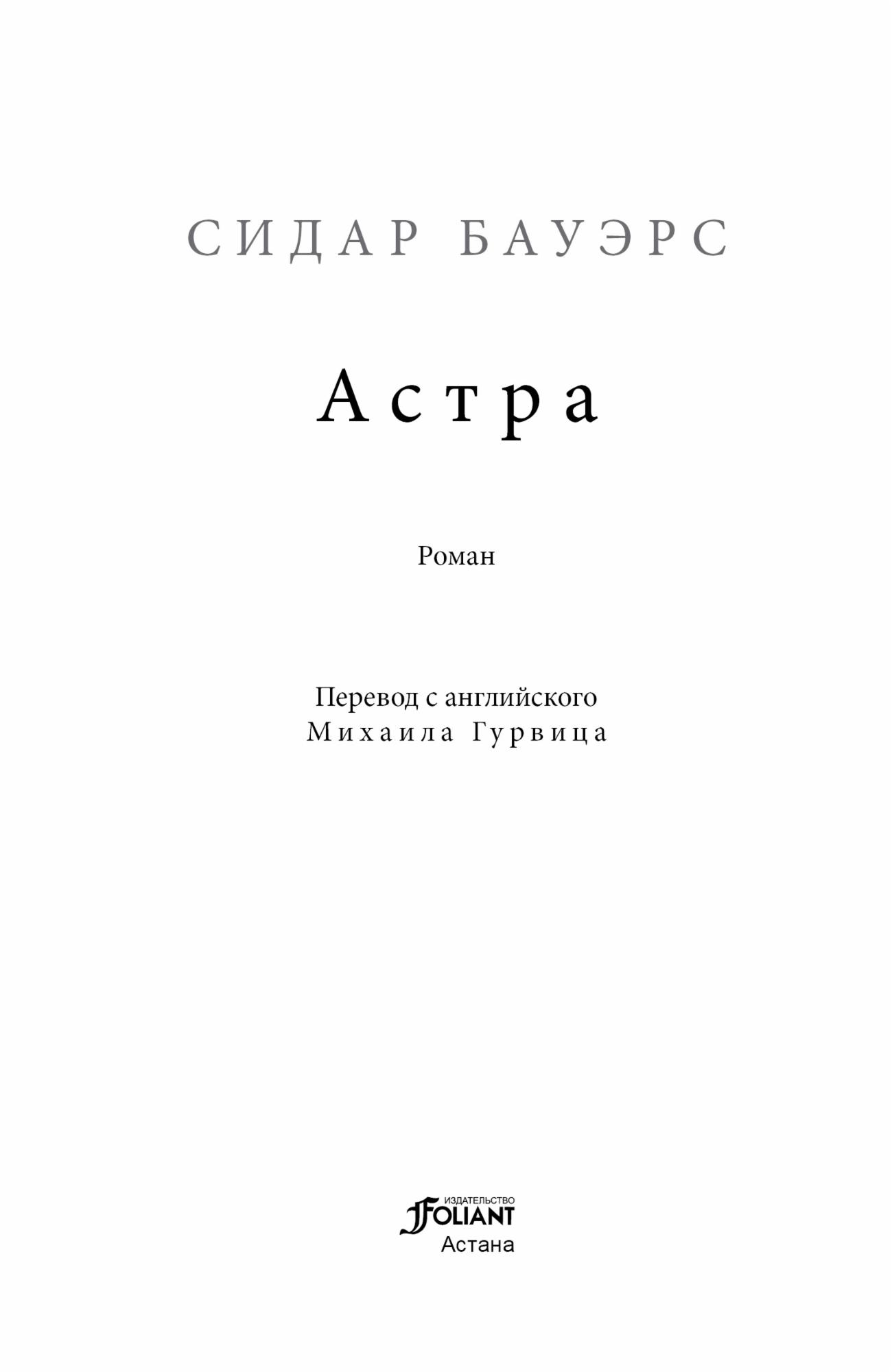
Посвящается Майклу
Я не буду притворяться,
Я не стану улыбаться
И, конечно, не скажу,
Что тебе я подхожу, —
Тебе, кем ты мог бы оказаться,
Тебе, кем ты мог бы оказаться,
Тебе, кем ты мог бы оказаться.
МАРТА УЭЙНРАЙТ

РЭЙМОНД
Рэймонду брайну не хотелось думать о ребенке, который должен был появиться на свет. Он ни об этом думать не хотел, ни о Глории, ни о собственной роли во всей этой истории. Не хотел думать ни о скулящем и беспомощном создании, ни о пуповине, ни о первом крике, ни о нежной новорожденной коже. Ни о родной крови, ни о семейных чертах, ни о непреодолимой тяге человечества к перенаселению этой изрядно потасканной планеты он тоже не думал. Ему хотелось только одного — делать свою работу. Тянуть с товарищами лямку на землях Небесной Фермы под бескрайним куполом небес. Заниматься землей, ирригацией, видами на урожай, строительством новых домов для членов общины, но рождение этого ребенка приближалось со стремительностью полета кометы, превращая все в несусветный бардак.
Глория приехала в марте с весенней партией рабочих, и после долгой одинокой зимы в небольшой избушке на одну комнату, которую он смастерил из еловых бревен в первую зиму на Ферме, Рэймонд запал на ее звонкий смех и широкие плечи и позволил ей провести несколько ночей в своей постели. Когда вскоре выяснилось, что Глория была бы не против продолжать, он сказал, чтоб она перебиралась в барак к другим работникам, объяснив доходчиво, что не верит в любовь до гроба, дорожит своей независимостью и никогда не собирался связывать себя узами брака. Именно из-за этого его высказывания, в отместку, Глория ничего не говорила о беременности до июня и заявила об этом во всеуслышание за завтраком всех членов общины, а не с глазу на глаз.
После того как женщины ее поздравили, погладив пальцами по небольшому упругому животу и расцеловав в полные щеки, Рэймонд отвел ее в сторону и еще раз растолковал, что он не из тех мужчин. Не из таких, которые женятся, содержат или верят в то, что А плюс Б равняется В. Он не собирался переезжать в город, стричься, идти работать в банк или заниматься еще какой-нибудь лабудой в этом духе. Он не намерен покупать дом и обзаводиться детской коляской, потому что тогда всем этим радостям конца не будет. Его позвали в Небесную по вполне определенной причине, и ничто не сможет его ни отвлечь, ни сбить с пути истинного. Если Глория рассчитывала, что он создаст с ней семью или получит от него признание в любви, она положила глаз не на того парня.
Несмотря на решительную позицию Рэймонда, Глория все лето провела в Небесной. Иногда она встречала его у реки или в саду. Бывало даже, что храбро стучала в дверь избушки, чтобы показать связанный ею свитерок для ребенка или рассказать о том, как ночью он брыкался в животе. Когда он так с ней встречался — беззащитной и вместе с тем настойчивой, — Рэймонд смотрел куда угодно, только не в ее широко раскрытые зеленые глаза, и говорил, что ей лучше было бы уехать к матери, чтоб та ей помогала. Сам он не хотел иметь с ее ребенком ничего общего.
— Нашим ребенком, — твердо поправляла его Глория.
— Ну, тебе виднее, — отвечал он, закрывая дверь.
Лето сменилось осенью, но и после того, как большинство сезонных рабочих вернулись в город нежиться в тепле электрообогревателей, Глория никуда уезжать с Фермы не собиралась. Так что в октябре, когда живот уже прилично выпирал под украшенными вышивкой платьями, задирая подолы чуть не до бедер по мере роста плода, Рэймонд старался встречаться с ней как можно реже. Прежде всего он перенес часть своих пожитков из избушки к берегу реки и устроил там себе что-то вроде логова для привала. Потом перестал проводить утренние собрания и подниматься на холм, где проходили общинные трапезы. Вместо них он питался капустой, морковью, укропом и цукини, которые росли в огороде, и от такой диеты прилично похудел.
В ноябре Дорис, его подруга детства, вместе с ним основавшая Небесную, сообщила ему, что они с Клодой, подругой Глории, переселили Глорию в его избушку, где было теплее. Несмотря на то что все остальные уехали на зиму, они решили быть вместе до рождения ребенка — им не хотелось оставлять бедную женщину в одиночестве.
Хоть это изрядно действовало Рэймонду на нервы, он считал, что со временем Глория поймет, какую совершила ошибку, и потому продолжал придерживаться собственного мнения. Ночью он спал на каменистом берегу реки, подложив под голову скатанную куртку и глядя на мерцающие звездочки, раскиданные по черному небосводу. Позже, когда ночами заметно похолодало, он стал ночевать в небольшом загоне для коз и каждое утро просыпался в надежде на то, что эта женщина со своим беременным животом в конце концов уедет. А еще лучше было бы, проснувшись, понять, что весь этот головняк оказался лишь страшным сном.
В середине декабря Рэймонд стоял наверху деревянной лестницы, а новый член общины Уэсли крепко держал лестницу у основания, обеспечивая ей устойчивость на каменистой почве. Они готовили к зиме двенадцатифутовую теплицу, им оставалось закрыть всего пять окон. Вдали чирикали воробышки и щебетали дрозды, вода в реке негромко плескалась под тонкой ледяной корочкой. Обычную на Ферме разноголосицу природы в тот день нарушал лишь один звук, с рассвета доносившийся со стороны Лагеря, —
пение женщин. В этом пении слышались непреклонность и твердость духа. Рэймонд отчетливо различал доносимые легким ветерком переливы женских голосов.
Засунув молоток в задний карман, он начал спускаться, когда внизу вскрикнул Уэсли и лестница стала крениться влево. Поношенные резиновые сапоги Рэймонда потеряли опору, а перекладины ступенек, за которые он держался руками в перчатках, стали скользить. К счастью, падая с высоты каких-то нескольких футов, ему удалось удержаться за лестницу, и он умудрился приземлиться без тяжких телесных повреждений.
Не оправившись от испуга, он почесал подбородок, скрытый длинной, спутанной бородой, а Уэсли тем временем не отводил от него пристального взгляда.
— Мне жаль, что так получилось. Это потому, что те женщины... там... вывели меня из себя, — заикаясь, пробормотал парень, лицо его раскраснелось, вид был встревоженный, будто он ждал хорошей взбучки.
— Не бери в голову. Никто не погиб.
Уэсли кивнул в сторону холма:
— Ты что, их не слышишь? Из-за чего, по-твоему, вся эта свистопляска? Они там всё поют и поют, не переставая, одну и ту же песню.
Рэймонд пожал плечами.
— Сам в толк не возьму, — ответил он, хотя был уверен, что знает причину происходившего.
Оставив парня возиться с лестницей, озябший Рэймонд застегнул куртку на молнию и побрел в сторону огороженной лужайки все еще нетвердым после падения шагом. По пути он внимательно смотрел по сторонам: десять акров отведенной под огород земли ждали весеннего сева; в яблоневом саду подрастали молодые деревца; геодезический купол почти готов; а вся земля, лежавшая по другую сторону ограды от оленей, терпеливо ждала, когда в Небесной будет достаточно народа, чтобы ее возделывать. Если судить о физической природе вещей, рождение ребенка в Небесной ничего бы не изменило. Но ощущение стало бы иным. Будто нависала угроза.
Рэймонд вынул из кармана зубочистку и ткнул ею себе в щеку.
Когда он вышел на лужайку, к нему, цокая копытцами по слежавшейся земле, подбежала их лучшая дойная коза Брейв. Рэймонд присел на корточки и позволил ей порыться у себя в карманах в поисках лакомства. Прислушался и с облегчением обнаружил, что пение женщин больше не доносится. Если не брать в расчет негромкое фырканье козы, над Небесной нависла тревожная тишина. Хотя не исключено, что женские голоса, раньше звучавшие по другую сторону холма, вдали от долины, заглушал поднявшийся ветер. А может быть, Глория всю дорогу ему врала. Может быть, под этим платьем своим она просто прятала большой воздушный шарик с завязкой на месте пупка.
Рэймонд закрыл глаза. Помолился пустоте. Потом звездам, космосу, Матери-природе, окружавшей его во всей ее безмерной совокупности. А что еще ему оставалось делать?
Заслышав вдали звук шагов, поскрипывавших-похрустывавших по морозцу, он поднял взгляд и озадаченно остановил на направлявшейся в его сторону Дорис. Она дулась на него еще с лета из-за этой его истории с Глорией.
А потом, когда несколько недель назад объявился Уэсли — тощий, бледный и явно пытавшийся соскочить с иглы, — она взъелась на парня не на шутку. Ей вообще не терпелось дать ему от ворот поворот. Она не хотела, чтобы Рэймонда
отвлекал от дел какой-то обкуренный сморчок, когда у него и без того проблем невпроворот. Но в Небесной тогда оставались только женщины, и, по правде говоря, Рэймонд хотел, чтобы рядом оказался кто-то, на кого можно было бы положиться, поэтому он по-тихому, наперекор мнению Дорис, сказал парню, что тот может остаться. Конечно, в итоге его решение оказалось ошибкой, и впервые с самого детства они с Дорис сильно повздорили — почти две недели вообще не разговаривали. Никогда еще в истории Фермы между мужчинами и женщинами не возникало столь явного противостояния: женщины были по одну сторону баррикады, мужчины — по другую.
Подойдя к лужайке, Дорис перелезла через верхнюю перекладину ограды, высоко закидывая ноги в камуфляжных рабочих штанах и ботинках со стальными набойками на мысках. Она тяжело дышала, лицо ее кривила гримаса.
— Ты ведь знаешь, почему я здесь, правда? — подойдя к нему, спросила она.
— Может быть, — уклончиво ответил Рэймонд, уперев взгляд в землю.
Резким движением она перекинула толстые косы за плечи и сменила одну гримасу на другую.
— Тогда скажи мне, есть какая-то вероятность того, чтоб ты перестал быть самовлюбленным придурком хоть на несколько часов? Только сегодня? Я не собираюсь с тобой пререкаться, но мне нужно, чтобы ты взял себя в руки.
Рэймонд присел на корточки, взял щепотку земли и растер ее между пальцами.
— Я только пытаюсь хранить верность своей судьбе, — сказал он. — Ты же это понимаешь.
— Это твоя судьба подсказывает, что теперь тебе надо быть идиотом? — спросила Дорис.
Ее слова слегка его задели, и он прикусил губу, чтоб не сказать ей об этом.
— Что именно ты хочешь, чтоб я сделал? — спросил он почти шепотом. — Честно говоря, я понятия об этом не имею. Просто ума не приложу.
Было ясно, что он нашел правильные слова. Дорис вздохнула и слегка смягчилась.
— Я хочу, чтоб ты наконец пришел в себя. Я хочу, чтоб ты снова стал порядочным человеком. Или тебе это так трудно? Представь себе, каково сейчас Глории.
Из загона для коз вышел Уэсли и оперся руками о верхнюю перекладину ограды. Потом сплюнул на землю.
— Что за шум, а драки нет? — спросил он.
— У нас разговор не для посторонних ушей, — холодно ответила Дорис.
Рэймонд вытер руки о штаны и встал.
— Вообще-то нам с Уэсом надо идти. Нас ждет кое-какая работа, — проговорил он, тщательно избегая взгляда Дорис.
Парень смахнул жирные волосы со лба.
— Да ну? А чего нам делать-то надо?
— Нам нужно до конца разобраться с последними окнами в теплице.
— Господи ты боже мой! — рявкнула Дорис. — Ты не можешь перестать из себя меня корежить, Рэймонд. Это займет несколько часов. Оставь окна на другой день.
— Почему? Я ведь не повитуха. Какой там от меня толк? Лучше я здесь останусь.
Дорис сощурила глаза до щелочек, потом снова широко их раскрыла.
— Ты не можешь оставить меня одну расхлебывать ту хрень, что сам сотворил. Я на это не подписывалась. Такого уговора не было.
— Ведь Клода здесь, разве не так? — сказал он. У подруги Глории был двухлетний сынишка, искусанный мошкарой серьезный мальчонка, который все лето подъедал что мог со всех тарелок и везде бегал голым — видимо, это был такой способ приучить его ходить на горшок. — Она тебе поможет. Разве не по этой самой причине она здесь осталась? — продолжил он свою мысль.
— Значит, на ней лежит за это ответственность? Или потому, что она женщина? Потому, что она мать? — Дорис в гневе сжимала и разжимала кулаки, ясно было, что внутри у нее все клокочет.
Вместо ответа Рэймонд удосужился лишь пожать плечами.
— Что-то я в толк не возьму. Из-за чего весь сыр-бор? — поинтересовался Уэсли.
— Глория рожает, — просветила его Дорис.
Парень насупился, потом повернул обветренное лицо к Рэймонду.
— А тебе какое до этого дело?
Рэймонд тряхнул головой.
— Иди в фургон, я скоро подойду, — отшил он парня.
Глядя на ковылявшего к грузовичку Уэсли, Дорис понизила голос и продолжила причитать:
— Поверить не могу, что ты позволил ему остаться. Есть в нем что-то противное. Мне не нравится, как он со мной разговаривает. И что это за ухмылка такая блудливая у него на роже? Он ко мне относится без всякого уважения.
— Он к тебе относится вполне уважительно. И что бы ты ни говорила, я просил Глорию уехать, а твое решение никогда не поддерживал, — пробубнил Рэймонд, прекрасно понимая, что два эти довода никак не пересекаются.
— Получается, что какой-то приблудный хмырь здесь желанный гость, а женщина, которая тебе рожает ребенка, — нет?
— Не знаю — может быть. Пожалуй, — пробурчал Рэймонд и тут, чувствуя, что ситуация может стать еще более мерзкой, пошел прочь. Отодвинув задвижку, он оглянулся и еще раз взглянул на подругу. — Я сказал ей ехать рожать в Ванкувер. Я не виноват, что она здесь осталась околачиваться. Не могу я быть ничьим отцом, Дорис. Не создан для этого. Я ей одолжение сделал тем, что сразу, как мы сошлись, все ей честно сказал. Разве ты не понимаешь?
— Нет, ты такой же, как любой другой паразит-халявщик, которому наплевать на своих детей! — голос Дорис срывался на крик, она угрожающе трясла в воздухе кулаком. — Ты не гуру какой-то, которому можно творить все что в голову взбредет. Это твоя чертова проблема, Рэймонд!
Подойдя к грузовичку, он услышал, что Глория с Клодой снова затянули песню. Стиснув зубы, он взобрался на водительское сиденье и захлопнул дверцу.
Уэсли, плюхнувшийся на пассажирское место, подпирал головой оконное стекло, накрыв лицо соломенной шляпой.
— Я так думаю, тебя именно это доставало, да?
— Ты что имеешь в виду? — Рэймонд повернул ключ зажигания и включил радио.
Уэсли убрал с лица шляпу.
— Я не знал, что Глория носит твоего ребенка.
Рэймонд пожал плечами.
— Пожалуй, она слишком для тебя молода, тебе не кажется? Она ведь немногим старше меня.
Рэймонд почувствовал, как в лицо ударила кровь, и процедил сквозь сжатые зубы:
— Она старше тебя.
— Конечно. Но ненамного.
Конфликт уже назрел, однако Рэймонд решил спустить его на тормозах, неспешно ведя машину к дороге по рытвинам и колдобинам поля. Уэсли снова накрыл лицо шляпой, а по радио женщина запела народную песню, которую он раньше не слышал. Мысленно он вновь вернулся к Глории. К тому, как в прошлом месяце она нашла его у реки за ремонтом оросительной системы и рассказала, что у некоторых народов женщины во время родов поют и их голоса помогают ребенку спокойно найти выход в мир.
— Мне хочется, чтоб так было при рождении нашего ребенка, — закончила она, сложив руки на вздувшемся животе, ее красивое лицо светилось надеждой.
Хотя ему полегчало, когда он уехал, с каждой милей пути все сильнее нарастало беспокойство. Дело было совсем не в том, что он хотел как-то обидеть Глорию или ее ребенка. У него и в мыслях не было сделать им что-то нехорошее. Он просто не хотел иметь к этому никакого отношения.
До старого карьера было семьдесят километров, и Уэсли умудрился проспать всю дорогу. Вскоре из динамика стали доноситься только помехи, Рэймонд выключил приемник и прислушался к тому, как покрышки мерно шлепают по выбоинам разбитой дороги.
Когда они подъехали, он увидел, что у проржавевших желтых ворот припаркован другой грузовик. Рэймонд ткнул парня под ребра, чтобы разбудить.
— Приехали. К сожалению, мы тут не одни, — сказал он, глядя через плечо назад, чтобы развернуться, и проехал по дороге обратно, пока ворота не скрылись из виду. — Придется ждать, когда они отвалят.
— А нам что, вместе там стоять нельзя? — спросил Уэсли, когда они съехали с дороги в лес.
Рэймонд заглушил двигатель.
— Нет. У нас секретное задание.
Уэсли устроился на сиденье поудобнее, потопал ногами, чтобы согреться, а Рэймонд, порывшись в кармане, достал металлический десятигранный игральный кубик, потряс его в пригоршне и бросил на сиденье. Несколько раз перевернувшись на выгоревшей оранжевой обивке, кубик остановился. Рэймонд взял его, провел большим пальцем по цифре 7 и снова бросил.
Уэсли нахмурился.
— Ты зачем это делаешь?
— Время коротаю. Шевелю мозгами.
Парень протянул руку.
— Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так извилины гонял. А мне можно попробовать?
— Я просто прикидываю, что нам дальше делать. Надо ли мне вообще здесь торчать, — ответил Рэймонд, опуская кубик в карман, подальше от шаловливых пальцев парня, который вполне мог его заиграть.
Уэсли опустил руку на бедро.
— Ты что, отвалить отсюда собираешься? Из-за какой-то бабы?
— Может быть. Она вроде как решила, что Небесная — ее дом, а я ей не начальник, чтоб ее переубеждать, — ответил Рэймонд, хотя ощущение того, что земля уходит из-под ног, было вызвано не столько Глорией, сколько ребенком. Как будто его, Рэймонда, туда, под землю, затягивает. Как же он тогда сможет выполнить задуманное и достичь цели? Так ему наверняка придется предать свои убеждения, распрощаться с заветной мечтой; он помнил, что то же самое случилось и с его отцом.
— Не думал, что ты так легко позволишь бабе себя напугать. Мне казалось, ты здесь вечно будешь жить. Превратишься в вонючего старика, который никогда шмотки не меняет.
Рэймонд не смог удержаться от улыбки. Порой парню удавалось отчубучить нечто забавное.
— Думаешь, я размечтался? Не в моей власти ей приказывать. По закону Фермой владеет Дорис. Она за нее платила, — добавил он, но этим было сказано далеко не все.
Мысль о Ферме пришла в голову Дорис и Рэймонда, когда им было всего по шестнадцать. Им хотелось оставить город, сделать на этой планете что-то хорошее, создать желанное прибежище для всех, кто захотел бы к ним присоединиться. В Небесной можно было бы любить кого хочется, одеваться как нравится. Там не должно быть ни начальников, ни «хозяев», ни власти, диктующей человеку каждое его движение. Они представляли, как Ферма растет, растет и в один прекрасный день становится самостоятельным городом — самодостаточным и демократическим, с пекарней, молочным магазином, детским садом и домом культуры, куда будут приезжать с выступлениями знаменитые музыканты и писатели. Претворить в жизнь эту мечту оказалось труднее, чем представлялось поначалу, но они всегда отдавали себе отчет в том, что осуществление такого колоссального проекта потребует времени и самоотдачи.
Дорис просто влюбилась в эти места. К немалому удивлению Рэймонда, после кончины отца она приобрела здесь два невысоких плоскогорья, разделенных сотней акров плодородной долины. Они оба управляли экскаватором, расчищавшим ведущую на холм дорогу. Потом освободили землю под строительную площадку, на которой со временем возник Лагерь, притащили на буксире старый школьный автобус, возвели барак, распахали землю под сад и огород. Целое лето они убирали камни, с корнями выдирали черничник и другие кусты, от чего мышцы болели, как при сильной лихорадке. Позже, когда темнело, они поджигали наваленные кучи вырванных кустов и смотрели, как искры улетают в ночное небо. Земля принадлежала Дорис, но создавали они Небесную Ферму как одна команда.
— Не знаю, что там Дорис обо мне думает, — сказал Уэсли, — но я никогда не видел женщины, которая бы так мало улыбалась.
— Она могла бы смотреть на тебя по-другому, и ты заслужил бы ее уважение, если б вкалывал, как полагается. Она человек надежный и порядочный во всех отношениях.
Парень перестал покусывать ноготь большого пальца.
— Честно говоря, я бы свалил отсюда с тобой, если б ты решил оторваться.
Рэймонд бросил взгляд на синяки под глазами Уэсли. Если он решит свалить, значит, захочет избавиться от ответственности, а не увеличить ее по ходу дела.
Когда другой грузовик в конце концов убрался, они подъехали к воротам и увидели, что дальше путь перекрыт массивной новой цепью со здоровенным амбарным замком.
— Ну что ж, — сказал Рэймонд, — у нас есть ноги. Надо их использовать.
Пока они брели по грязной дороге, Рэймонд сказал, что об этом заброшенном карьере он узнал от хозяина универмага в Ланне. Он перечислил Уэсли все сокровища, которые там собрал: сиденье для сортира и дверь с проволочной сеткой для туалета в Небесной, доски для теплицы, несколько складных стульев, печку и цепи, чтобы подвесить что-то типа чердака или пола второго этажа в его избушке.
— Если Дорис такая богатая, разве она не может заплатить за все барахло, которое вам нужно? — спросил Уэсли.
Улыбка Рэймонда затерялась в клочковатой бороде.
— Которое нам нужно. Конечно, может. Но дело вовсе не в этом — купить можно все что хочешь. Но когда ты что-то найдешь на свалке или в мусоре и вернешь этой вещи ее изначальную ценность или когда повкалываешь до седьмого пота и создашь что-то реально значимое, долговечное, — почувствуешь ни с чем не сравнимое удовлетворение. В принципе, именно этим мы и занимаемся на Ферме. Естественно, нам еще предстоит пройти долгий путь, но когда-нибудь люди напишут об этом месте книги, помяни мое слово.
Разговор оборвался, когда они миновали последний поворот дороги и увидели за ним несколько беспорядочно расположенных хозяйственных строений. Место это было, как всегда, заброшенным, но здесь появились новые ярко-желтые знаки с надписями ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН, прикрепленными к стенкам сдвоенных жилых трейлеров.
Рэймонд снял рюкзак и протянул Уэсли фомку.
— Давай, пора браться за работу, — поторопил он парня.
Им понадобилась пара часов, чтобы снять все оконные
рамы. Потом, продолжая работать в молчании, они уже в сумерках перенесли оконные стекла к дороге, там обернули их шерстяными одеялами и аккуратно уложили в кузов грузовичка.
— Я вернусь, взгляну, может, мы там что полезное забыли взять, — сказал Рэймонд, когда они закончили. — По всей видимости, я сюда наведался в последний раз.
— Мне очень есть хочется. И я весь промерз, — пожаловался Уэсли и стал похлопывать руками.
— Да ладно тебе, как-нибудь переживешь, — ответил Рэймонд, поднял задний откидной борт грузовичка и тут же зашагал обратно, пока парень не опомнился и не увязался за ним.
Вернувшись к карьеру, он включил фонарик и не спеша вновь прошел по постройкам, откидывая ногами мусор и всякий хлам, заглядывая в чуланы и кладовки, выдвигая ящики столов. Под какой-то старой газетой он нашел отвертку, наполовину использованную книжку квитанций и металлическое ведро с толстым дном. Завершив осмотр, он сел на разбитое крыльцо и разложил на земле находки. Ему не хотелось возвращаться к машине, не решив, что делать дальше.
Когда летом они впервые завели разговор о ее беременности, Глория попросила его подумать о том, чтобы вернуться с ней в Ванкувер и жить там вместе, как все нормальные семьи. От такой перспективы он сразу наотрез отказался. Его пугала сама мысль о возвращении к обычной городской жизни. Ферма была для него святилищем, смыслом его существования. Но все дело в том, что он и в Небесной не хотел жить вместе с ней. Он даже представить не мог, как они втроем всю зиму напролет будут тесниться в его жалкой избушке и делать вид, что выдают себя совсем не за тех, кем были на самом деле. Так жили его родители — постоянно чем-то жертвуя, с чем-то смиряясь. Эта жизнь все время действовала им на нервы, разбивала сердце, надрывала душу. Нет, к такой жизни он совершенно не стремился.
Другой возможностью для него был побег. Полный отрыв еще до того, как ребенок впервые наполнит легкие воздухом. Чтоб никогда его не видеть. Никогда его не касаться. Чтоб имени его не знать. Чтоб он просто растворился в небытии, дематериализовался. Он мог ссадить Уэсли у Фермы и доехать до шоссе в одиночестве. Он мог найти какую-нибудь разношерстную команду в другом унылом городе и начать создавать что-то наподобие Небесной Фермы заново, с самого начала.
Но проблема заключалась в том, что, о чем бы он ни думал, Рэймонд снова и снова приходил к одному и тому же выводу. Независимо от того, возьмет он на себя ответственность или откажется от нее, ребенок все равно появится, и он никак не сможет об этом не узнать. И уже в скором времени это дитя станет настоящим, мыслящим, духовным существом, точно таким же, как он сам, и будет сильно на него обижено. Оно будет судить о том, есть ли он в его жизни или нет, о его любви или ее отсутствии, будет спрашивать себя, чем оно заслужило такого отца. При этом Рэймонда больше всего ужасало, что в итоге это дитя станет испытывать из-за него более или менее сильную боль. Настанет день, и оно будет его ненавидеть, или беспокоиться о нем, или ощутит потребность отпустить ему грехи. Время нельзя повернуть вспять. Часы не могут идти против часовой стрелки. История их семьи уже началась.
Он поймал себя на том, что мурлычет мотив песни, которую сегодня слышал по радио. Женский голос напомнил ему о пении, доносившемся до него этим утром в Небесной, — громком, слегка фальшивившем, но звучавшем непреклонно. Оно непроизвольно вызвало в памяти голос матери.
Воспоминания о ней были туманными: ощущение щекотки, когда он прижимался щекой к маминому шерстяному свитеру; вздутые вены на тыльной стороне ее загорелых рук; запах ее волос, когда она, подражая лошадке, скакала по лужайке, а он висел у нее за спиной, уцепившись за косу. У нее была гитара, а ни одна из матерей его друзей даже представить себе не могла, что можно выступать перед людьми, не то чтобы отважиться на это. А мама играла для него. Ее музыка еще жила в нем — теплая и живая, она еще в нем трепетала.
До его рождения родители Рэймонда яростно критиковали буржуазную культуру и капитализм, но когда ребенок появился на свет, отец стал говорить, что им нужно приличное жилье. Чарльз Брайн с семьей переехал из однокомнатной квартиры в восточной части Ванкувера в гараж, стоявший рядом с роскошным каменным особняком, где он получил работу смотрителя и садовника. Именно там Рэймонд встретился с Дорис (отцу которой принадлежала усадьба), и, хотя они ходили в разные школы — Дорис в частную на берегу океана, а Рэймонд в государственную, где училось много трудных подростков, — все свободное время они проводили вместе, бродили по территории, строили крепости или играли в карты за кухонным столом.
Если Чарльзу нравилась работа и обретенная семьей стабильность, мать Рэймонда жизнь в имении раздражала.
Она считала, что муж попусту растрачивает жизнь на всякие, по ее выражению, «фривольности», ухаживая за цветами, аромат которых никто не вдыхает и красоту которых никто не ценит, или косит траву на лужайке, где можно было бы играть в гольф, но никто по этой лужайке не ходит. Она вступила в Социалистическую партию Британской Колумбии и по вечерам обычно где-то пропадала, участвуя в протестах и политических дебатах. Со временем, оставаясь дома по вечерам, она стала себе позволять швыряться в мужа тарелками и бутылками, и однажды Рэймонд порезал пятку об осколок глиняной миски, который она не удосужилась подмести с пола после одной из их разборок. Самым ярким воспоминанием Рэймонда о ней было то, как она зубами вытащила этот черепок, когда он сидел на столе, и при этом ее ничуть не смутил вкус его крови.
Его передернуло, и он судорожно сглотнул. Рэймонд редко позволял себе погружаться в воспоминания о раннем детстве. Потому что, когда ему было шесть лет, как-то утром мама поцеловала его в лоб, собрала манатки и ушла.
С годами Рэймонд очень старался простить ее за это. Поверить, что она ушла, чтобы выжить. Чтобы спасти духовность. Чтобы бороться за то, без чего, как ей казалось,
мир бы пропал. Она была женщиной, опередившей свое время, а он — ее сын — стал жертвой, которую ей пришлось принести. Ему надо было верить, что, оставив их, она поступила смело, что трус не смог бы так поступить. Но на самом деле ему не было дано узнать ее чувства ни в тот день, когда она ушла, ни на следующий. Может быть, она жалела об этом. Может быть, ей не стало от этого легче.
Может быть, если бы она осталась, у нее было бы все: любовь, работа, цель в жизни и сын.
Черт бы все это драл. Не надо ему, наверное, повторять ту же ошибку.
Услышав шум на грязной дороге, Рэймонд протер глаза и почесал бороду, пребывая в полной уверенности, что это Уэсли пришел его искать. Но вместо парня он заметил крупного оленя с ветвистыми рогами. Шея у него была массивная и мускулистая, шерсть хорошо защищала от холода. Либо не обращая на Рэймонда внимания, либо не замечая его, животное подходило все ближе, опустив голову под весом тяжелых рогов.
Поначалу Рэймонд был лишь поражен размерами зверя, но, когда тот подошел ближе, заметил, что олень ранен в круп. Длинная полоса разорванной плоти почти в дюйм шириной болезненно напухла и сочилась гноем; видимо, его ранила пуля, пройдя по касательной. Олень тяжело дышал и подволакивал заднюю ногу. Но рана, как казалось, была не единственной проблемой — в облике оленя можно было заметить еще и глубокую печаль, и Рэймонд, сам того не желая, воспринял присутствие животного как некий дурной знак.
— Пошел вон! — крикнул он, вскочив на ноги и звонко ударив отверткой по ведру. — Убирайся отсюда к чертовой матери!
Олень взглянул на него еще раз, потом повернулся и, пошатываясь, побрел в густой кустарник. Только когда зверь скрылся из виду, до Рэймонда дошло, что пора собирать вещи и возвращаться к машине.
Проехав в ворота Фермы, Рэймонд свернул на крутой подъем, который вел к Лагерю, а не на дорогу к козьему загону.
— Мне казалось, ты не хотел с этим связываться, или не так? — спросил Уэсли, который все еще был немного зол на него за то, что так долго пришлось ждать на холоде у карьера.
— Я так думаю, мне, по крайней мере, надо проверить, как там обстоят дела, — ответил Рэймонд.
— Знаешь, на сегодня с меня Дорис хватило. Я лучше подамся к козам.
— Как знаешь, — сказал Рэймонд, остановил грузовичок и высадил парня.
Доехав до вершины холма, он какое-то время пристально смотрел через окно на Лагерь — каменистую расчищенную поляну с рядом берез у крутого склона, школьный автобус, широкий жилой трейлер, барак и столовую на свежем воздухе с потрепанным от порывов ветра брезентовым тентом. Смотреть было особенно не на что, зато все это принадлежало им с Дорис.
Они решили начать обустраиваться именно в этом месте, потому что, когда впервые уселись на краю обращенного к западу утеса и взглянули на долину, им представилась картина раскинувшейся внизу Фермы. Рэймонд и Дорис поклялись друг другу завершить там свои дни, когда вместе состарятся, коротая время в мире и дружбе. Возможно, Рэймонд не собирался выполнять это обещание, возможно, он не хотел иметь ребенка, но решиться на то, чтобы бросить Дорис или предать их мечту, он тоже никак не мог.
Небо к этому времени уже полностью заволокло тучами, понемногу стали падать снежинки, но Рэймонд знал, что над спустившейся тьмой сияет Венера, а по соседству ясно мерцает пояс Ориона. В то утро, проснувшись от звуков женского пения, он порылся в рюкзаке, вынул свою книжку по астрологии и выяснил, что ночью объявятся и Геминиды и всю следующую неделю будет идти метеоритный дождь. А новорожденное дитя может видеть так далеко? Может оно видеть небо? Он даже удивился, обнаружив, что теперь, когда решение было принято, думать о ребенке стало не так тяжело, как раньше.
Ему было интересно, придумала ли уже Глория ребенку имя. Ее подруга Клода назвала сына Фридом, но Рэймонду такое имя не понравилось [1]. С таким именем пареньку было непросто жить. Свобода — это то, что нужно завоевать или заработать. За красивые глаза ее не предоставляют. И потом, не стоит навязывать свои убеждения собственным отпрыскам таким способом. И меняться человеку не надо просто потому, что он стал родителем, — с ним самим такого наверняка не случится. Рэймонд решил, что выйдет на орбиту вокруг ребенка и его матери, как одна из дальних лун Юпитера. Если им захочется остаться здесь, он отдаст им свою избушку, а себе построит другую хибару у реки. Может быть, ребенок будет к нему время от времени забегать, и тогда он сможет его научить орудовать топором и мотыжить кукурузу. А со всем остальным вполне справится Глория.
Рэймонд вынул из кармана игральный кубик, пощупал пальцами числа, ощутил в руке его тяжесть. Обычно он не был сентиментален в отношении вещей, но этот предмет всегда держал при себе. Он нашел его в ящике тумбочки, стоявшей у кровати его матери, вечером того дня, когда она ушла, и это стало единственным вещественным напоминанием, которое от нее осталось. Он поднес кубик к губам, поцеловал его, потом положил в карман.
В его избушке резко, со стуком, распахнулась дверь, на землю Лагеря лег слабый отсвет свечей. Из помещения вихрем вылетела Дорис и решительно направилась к грузовичку.
— Я сомневалась, что снова тебя увижу, — сказала она, когда Рэймонд опускал оконное стекло.
— Я тоже не был в этом уверен... У вас здесь все в порядке? — ему удалось выдавить вопрос, несмотря на то что внутри у него все сжалось.
— Все в порядке? Да нет, я бы так не сказала. Побожиться могу, Глория дожидается твоего возвращения, чтобы родить ребенка. Она вроде как в себе его зажимает. Я все говорила ей, что ты придешь, хотя сама понятия не имела, так это или нет. Это единственное, что ей хоть как-то может облегчить страдания.
— Черт, — негромко процедил он сквозь зубы. — Ну и что ты хочешь, чтоб я сделал?
— Мне нужно, чтобы ты вошел в свою избушку, сказал Глории, что любишь ее, что хочешь этого ребенка и что с твоим семейством все будет хорошо до скончания времен.
В этих словах не было и намека на шутку, однако Рэймонд чуть не рассмеялся.
— Я не могу этого сделать, Дорис. Угомонись.
— Знаю, что не можешь, но должен.
Положив руки на руль и прислушиваясь к негромкому перестуку связки ключей, один из которых оставался в замке зажигания над правым коленом, он вернулся к мысли о побеге. Потом вновь обратил внимание на подругу.
— Ладно, буду тут торчать. Я остаюсь. Но при этом не собираюсь корчить из себя не того, кто я есть. Врать, как тебе хочется меня заставить, я не могу.
— Нет, можешь. Здесь до ближайшей больницы многие мили, и мы должны делать все, что от нас зависит, — сказала Дорис. — Пожалуйста, сделай, как я тебя прошу, а в остальном можешь поступать по-своему. Никто тебе не будет говорить, как растить твоего ребенка. Мне до этого дела нет. Но в этот вечер мне нужно, чтоб ты соврал. Правду начнешь говорить, когда завтра взойдет солнце.
Рэймонд стоял внутри у самой двери избушки, которую сам мастерил по бревнышку, доска к доске, каждую оконную раму прилаживал своими руками. В центре комнаты на раскаленной печурке отчаянно бренчал крышкой кипящий чайник. Войдя с морозца в теплое помещение, Рэймонд почувствовал, что от внезапной смены температуры кожа по всему телу начала слегка зудеть и покалывать. Воздух был плотным, влажным, запах стоял не такой, как раньше. Теперь тут пахло потом и металлом, осадочными горными породами и недавно распаханной землей.
Он изо всех сил старался не привлекать к себе внимание, просто стоял у входа и смотрел на трех женщин. У всех на лбу выступили капельки пота, рукава были закатаны по локти, напряженная сосредоточенность придавала их лицам суровое выражение. Теперь они не пели. Он решил, что время песен прошло. Или песни не помогли, как на то рассчитывала Глория. Или уже было поздно — кто знает.
— Ты вернулся, — сказала Глория, подняв на него взгляд. В ее больших глазах отражалось напряжение и что-то еще — должно быть, страх. Рэймонд посмотрел прямо на нее и кивнул. — Ты останешься здесь со мной?
Это, по крайней мере, он мог ей пообещать.
— Да, останусь, — ответил он.
Сразу после этого ее пальцы впились в простыни, взгляд помутился и она начала негромко стонать. При этом у Рэймонда возникло ощущение, что с ходом минут комната как будто увеличивается в размере. Стропила поднимаются, доски пола удлиняются, бревенчатые стены расширяются. Избушка, которую он построил для себя одного, превращалась во что-то вроде храма — святилища, контроль над которым был ему неподвластен. Наоборот, все существо Рэймонда в итоге сдалось на его милость. Плечи опустились, руки плетьми обвисли по бокам. К чему бороться? Он ведь только человек. Небольшой. Незначительный. Напуганный, как все остальные. Единственной разницей между вчера и сегодня оказалось то, что теперь уже нельзя было сказать, что он в этой истории один как перст.
[1] Freedom — свобода (англ.).

КИММИ
теперь мама кимми во всем установила правила. Например, ложиться спать всегда надо было в семь часов, руки надо было мыть перед едой и после еды, Кимми не разрешалось поднимать, обнимать или целовать ее маленькую сестричку Стэйси. Еще одним правилом был тихий час, и каждый день в течение этих на самом деле двух мучительно долгих часов Кимми приходилось оставаться в своей спальне, пока малышка спала. Это было особенно противно, потому что здесь она терпеть не могла свою комнату. Стены в ней белые, голые, пахнет, как новым ковриком или краской; а в старой ее комнате в старом доме стены были обшиты деревом, как на пиратском корабле, там был темный чулан, манящий тайной опасностью, и ворсистый ковер цвета морской волны, в котором терялись всякие шарики, бусинки, детали пазлов и кукурузные зернышки. Та старая комната была в тысячу раз лучше.
Когда они три недели назад переехали в этот дом, Кимми привезла с собой все свои игрушки: маленьких лошадок, медицинский набор, всех Барби, коллекцию Тряпичных Энни и розовый деревянный кукольный дом. Но в ее новой комнате они выглядели совсем по-другому, все были какие-то вроде даже как потрепанные. Как будто за время долгого переезда в грузовике потускнел весь их искрометный блеск. Мама не понимала суть проблемы. Она считала, что Кимми надо перестать хныкать и быть благодарной за переезд в дом, где на стенах нет следов грязных пальцев предыдущих жильцов.
На самом деле Кимми больше всего хотелось перенести игрушки в гостиную. Если бы она могла играть под большим окном около высоких напольных часов и мама была бы рядом, может быть, ее куклы как-то опять вернулись бы к жизни. И дни, наверное, тянулись бы не так мучительно долго, когда каждая секундочка по-черепашьи тащится по
циферблату. Но и на этот случай тоже есть правило: игрушки Кимми не должны покидать пределы ее спальни ни при каких обстоятельствах.
— А что, если малышка дотянется до туфельки на шпильке у твоей куклы, схватит бусинку, пуговичку или стеклянный шарик, положит в рот, проглотит и задохнется? — постоянно спрашивала мама. Как будто Кимми забыла семерых своих братиков и сестричек, которым не удавалось оставаться на этом свете живыми. Как будто она забыла горючие мамины слезы после потери каждого ребенка. Или что мама никогда не включала яркий свет. Или как у нее дрожали руки. Или как она могла часами сидеть на диване, в то время как в раковине скопилась целая гора посуды, а потом оправдываться с полными слез глазами: «Мне просто немного взгрустнулось, вот и все», — хоть было ясно как божий день, что на душе у нее с неистовой силой скребли кошки.
С рождения Кимми прошло целых семь лет, когда наконец на свет появилась прекрасная, здоровенькая малышка Стэйси, но именно это событие привело к тому, что число правил удвоилось, стиснув Кимми, как слишком сильно затянутый вокруг талии пояс. И теперь, когда мама должна бы быть счастлива, она стала всего бояться. Ей было страшно от того, что у ребенка могла сломаться косточка, выскочить сыпь или что девочка задохнется во сне, если пеленки перекроют доступ воздуха. Она всегда протирала абрикосы и горох на кухне, вытирала все поверхности в доме дезинфицирующими средствами и никогда никуда не хотела выходить, опасаясь, что какой-нибудь заразный незнакомец попытается коснуться щечек Стэйси своими грязными руками. Складывалось впечатление, что мама думает только о том и занимается только тем, чтобы сохранить ребенку жизнь, даже если ради этого ей надо будет забыть обо всем остальном. Даже если ей и о Кимми придется забыть.
Обычно, когда наступал тихий час, Кимми пряталась под одеялом от своих игрушек с погасшими глазами. Сползала в изножье кровати, находила там, где одеяло было заправлено под матрас, самое темное место, и принюхивалась в поисках застоявшегося запаха своей старой комнаты в складках стеганого одеяла. Время как будто поворачивало вспять, сестра еще как будто не родилась, но воздух постепенно становился жарким, и, начав задыхаться, она скидывала одеяло, чтобы глотнуть свежего воздуха новой комнаты. Однако в тот день, утомленная рутинным однообразием действа, вместо его повторения Кимми решила взять бумагу с карандашом и записать названия всех птиц и зверей, которые покажутся в окне. Все, кого она увидит за окном, будут занесены в список: утки, птицы, скунсы, олени. Она станет делать как мама, когда та играет в слова, —
поставит четыре вертикальные палочки, а потом перечеркнет их пятой горизонтальной, и тогда они будут выглядеть как часть забора из штакетника.
Ей не разрешают открывать окно, потому что неизвестно, как легкие малышки Стэйси будут реагировать на пыльцу или на пыль, поэтому приходилось смотреть на чудесный летний день сквозь оконное стекло. Окно ее, к сожалению, всего в трех футах от земли, поэтому панорама открывалась не ахти какая. Внизу проходит покрытая гравием дорожка к гаражу, за ней неширокая полоска лужайки с побуревшей травой. Еще через несколько футов тянется сколоченная из редких жердей ограда, отделяющая их участок от соседского поля, где растет высокая переливчатая трава, которая со временем станет сеном. А вдалеке можно различить вершины двух не очень высоких холмов, поросших чахлыми деревцами.
Через двадцать минут у Кимми на бумаге набралось только шесть отметин, и все обозначали птиц. Она уже была готова прекратить свое занятие и залезть под одеяло, но тут заметила за оградой какое-то движение. Должно быть, там какое-то животное. Большое и бурое. Олень может быть бурым, подумала она, и медведи тоже. Сделала на бумаге отметку, поправила ленточку на голове, потом стала всматриваться в проемы в изгороди. Ошибки быть не могло — кто-то там двигался взад и вперед, оставаясь при этом частично скрытым травой. Потом это существо поднялось на задние лапы и стало ей махать. Оказалось, что это девочка. В забавном вельветовом платье. А рядом с ней вертелся пес черно-белого окраса с высунутым ярко-розовым языком.
Кимми напряженно вглядывалась в окружавшее девочку пространство. Где же ее родители? — недоумевала она. Ей самой было запрещено одной выходить из дома даже на веранду, чтобы полить анютины глазки.
Не успела она решить, надо ли ей помахать в ответ или просто улыбнуться, девочка пожала плечами, что-то сказала собаке, раздвинула высокую траву и исчезла в ее зарослях.
На следующее утро Кимми проснулась, надеясь, что девочка вернется. Она подошла к окну и выглянула во двор — там только мышка бежала по гравию. Кимми оделась и снова посмотрела в окно: солнце поднялось чуть выше, но девочки не было. Утро тянулось целую вечность, и, когда в конце концов пришло время обеда, Кимми охватило беспокойство, она расщипала на кусочки свой бутерброд, понадкусывала все морковки и взлохматила себе волосы.
— Не болтай ногами, сиди спокойно, — сказала мама.
— Извини. — Кимми решительно уперла пальцы ног в линолеум. Малышка Стэйси стукнула своей обрезиненной ложечкой по подносу и загукала. — Можно я попробую ее покормить? — спросила она, заранее зная, какой будет ответ.
— Ты еще маленькая, моя дорогая.
— Ты как будто и меня все еще считаешь младенцем, — проворчала Кимми себе под нос.
— Это что еще такое, детка?
— Ничего.
Маленькая Стэйси внимательно за ними наблюдала, потом стала смеяться, смех перешел в пронзительный, радостный вопль, и она швырнула ложку на пол. Мама что-то запричитала, вроде как делая малышке выговор, и начала убирать со стола.
Вернувшись в свою комнату к тихому часу, Кимми сразу же подошла к окну, потянула за шнурок и до самого верха подняла жалюзи. Вот так! Именно так, как ей очень того хотелось, — девочка сидела на корточках сразу же за оградой. Увидев Кимми, она встала и теперь не просто махнула рукой, а стала жестикулировать обеими руками, явно приглашая ее выйти из дома.
А мне разве можно? Кимми отпустила шнурок, и жалюзи со стуком упали на подоконник. Она плюхнулась спиной на пол, чтобы подумать, и тут мама резко распахнула дверь в комнату.
— Тише, — сказала она, прижимая малышку к груди. — Что ты как ненормальная с таким грохотом шмякаешься об пол? Неужели не можешь тихо себя вести, пока я укладываю Стэйси? Или я слишком много прошу?
— Прости, мамочка.
Дверь затворилась, мама запела в соседней комнате колыбельную; когда она укачивала малышку, под ногами у нее поскрипывал пол. Кимми помнила то время, когда мама так укачивала ее и пела колыбельные ей. Когда-то она сделала маму такой счастливой, что потом та снова и снова пыталась родить еще ребенка, чтобы семья стала больше.
— С тобой все было так легко, так хорошо. Ты меня вдохновляла, — говорила ей мама. Но Кимми не нравилось слово «было». Оно только лишний раз подтверждало то, что она знала и так: теперь от того времени остались одни воспоминания.
Каждый раз, когда мама беременела, Кимми нежно прижималась ушком к раздутому, гладкому маминому животу и прислушивалась, как там копошится и хлюпает незнакомое ей существо, представляя себе, чему она будет его учить: кувыркаться, танцевать, заплетать косички. Но даже несмотря на то, что с малышкой Стэйси все было в порядке, Кимми ничего не разрешали показывать сестренке. А когда родители сказали ей, что они переезжают на север Британской Колумбии, где ее папа, офицер Королевской канадской конной полиции, будет патрулировать двухсоткилометровый участок дороги, проходящей между Баркервиллем, Ланном и Хиксоном, Кимми плакала дни напролет. Она переживала из-за того, что ей придется расстаться с друзьями, и была уверена, что возненавидит места, куда им придется переехать, но мама сказала, чтобы она не дурила.
— У тебя же есть сестричка, — добавила она. — Тебе всегда будет с кем играть.
Но, если смотреть правде в глаза, Кимми чувствовала себя еще более одинокой, чем раньше.
Может быть, эта девочка с другой стороны изгороди сможет все исправи
