автордың кітабын онлайн тегін оқу Полемическая культура и структура научного текста в Средние века и раннее Новое время: коллект. моногр
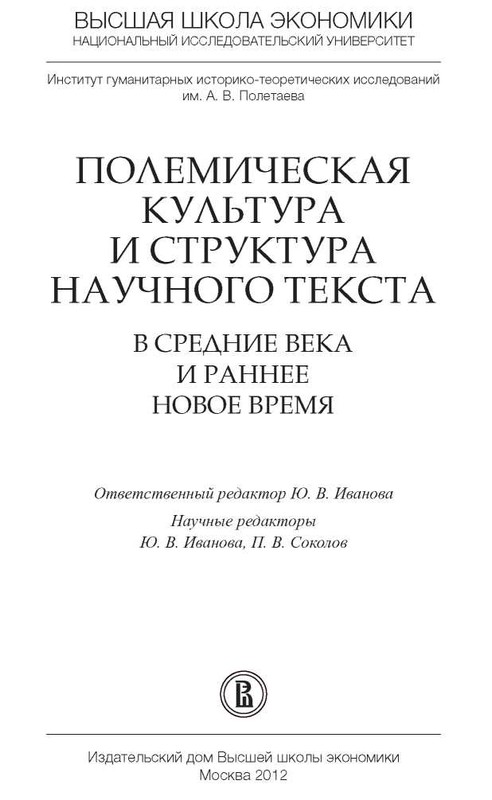
УДК 14
ББК 87.3
П49
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках коллективного исследовательского проекта РГНФ 09-03-00665а «Полемические стратегии в философии, богословии и науке Западной Европы XIII-XVI вв.»
Рецензент:
доктор исторических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ И.М. Савельева
Ответственный редактор — Ю.В. Иванова
П49 Полемическая культура и структура научного текста в Средние века и раннее Новое время: коллект. моногр. / отв. ред. Ю. В. Иванова; науч. ред. Ю. В. Иванова, П. В. Соколов; сост. указателя М. В. Шумилин; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — ISBN 978-5-7598-0894-7 (в пер.).
В монографию вошли исследования, целью которых является реконструкция контекстной истории аргументативных практик в различных областях интеллектуальной культуры Западной Европы Античности, Средневековья и раннего Нового времени: в богословской мысли, в естественных науках, в схоластической философии, в литературе гуманистического движения. В центре внимания авторов монографии — важнейшие для донововременной европейской интеллектуальной культуры полемические сюжеты; аргументативная структура философских, научных и богословских сочинений; коммуникативные условия функционирования философского и научного знания; жанровые и логико-семантические особенности философских и научных текстов полемической направленности.
Традиционная «перспективистская» модель развития научных и философских концепций, господствующая в историко-философской и историко-научной литературе Нового времени, в монографии подвергается пересмотру. История философской и научной мысли предстает как серия трансформаций аргументативного поля философских и научных концепций — как история изобретения аргументов и воспроизводства полемических практик. В своей версии реконструкции историко-философского процесса авторы монографии стремятся максимально учитывать многообразие «внетеоретических» факторов развития философии и науки — социальных, политических, институциональных. Философские и научные концепции, тезисы, идеи анализируются как продукты речевых практик, определяемых коммуникативным узусом господствующих форм интеллектуальной культуры.
УДК 14
ББК 87.3
ISBN 978-5-7598-0894-7
© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, 2012
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2012
Электронное издание подготовлено компанией «Айкью Издательские решения» (www.iqepub.ru)
Содержание
Ю.В. Иванова | ВВЕДЕНИЕ
Раздел I. КУЛЬТУРА ПОЛЕМИКИ И СТРУКТУРА НАУЧНОГО ТЕКСТА
П.Б. Михайлов | БОГОСЛОВСКИЕ СТРАТЕГИИ В ТРАКТАТЕ ОРИГЕНА «О НАЧАЛАХ»
Е.В. Антонова | СХОЛАСТИКИ: СПОСОБЫ АРГУМЕНТАЦИИ В СПОРЕ IX в. О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ
Введение. Динамика интеллектуального развития при переходе от патристики к схоластике
1. Каролингское Возрождение: философско-теологические дискуссии
2. Спор о предопределении
3. Анализ способов аргументации участников спора IX века о предопределении
М.А. Сорокина | СТРАТЕГИИ АРГУМЕНТАЦИИ И ПОЛЕМИКИ У ОДНОГО РАННЕГО КРИТИКА АСТРОЛОГИИ: «СУММА О ЗВЕЗДАХ» ГЕРАРДА ИЗ ФЕЛЬТРЕ
1. Contra fidem
2. Contra phylosophicam doctirinam
3. Contra rationem
М.Л. Хорьков | АВТОРИТЕТ И АРГУМЕНТ В СОЧИНЕНИЯХ МАЙСТЕРА ЭКХАРТА
Е.Н. Лисанюк | ПОЛЕМИКА И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ «ДИСПУТ»
1. Современные интерпретации предписаний
2. Правила предписаний
3. Реконструкция предписаний
4. Развитие средневекового жанра de obligationibus
5. Прагматические основания полемики
6. Полемика и предписания
Раздел II. ФИЛОСОФСКИЕ И БОГОСЛОВСКИЕ СПОРЫ
М.С. Петрова | ПОЛЕМИКА ЭПИКУРЕЙЦЕВ И ПЛАТОНИКОВ О ДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫМЫСЛА В ФИЛОСОФСКИХ РАССУЖДЕНИЯХ
Полемика эпикурейцев и платоников в изложении Макробия
Макробиева классификация мифов и сказаний применительно к их использованию в философских рассуждениях
Приложение
И.В. Макарова | УЧЕНИЕ Ф. СУАРЕСА О ДУШЕ И ЕГО РОЛЬ В ДИСКУССИИ ОБ АКТИВНОМ УМЕ
Проблема νους ποιητικός
Франсиско Суарес и его «Комментарий к “О душе” Аристотеля»
Объект интеллектуального познания в интерпретации Суареса
Intellectus agens в интерпретации Фомы Аквинского
Учение Суареса о деятельном и возможностном уме
Вопрос о бессмертии intellectus agens и человеческой души
Г.В. Вдовина | «АРГУМЕНТ ОТ КАМНЯ»: СХОЛАСТЫ XVII в. О ВЛОЖЕНИИ ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
П.В. Соколов | О НОРМЕ ТОЛКОВАНИЯ И КАРТЕЗИАНСКОМ МЕТОДЕ В БИБЛЕЙСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ XVII в.: ЛОДЕВЕЙК МЕЙЕР И ЕГО КРИТИКИ
Е.Г. Драгалина-Черная | VIA EMINENTIAE КАК ИНФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ И АРГУМЕНТАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Via eminentiae Ансельма Кентерберийского: «то, больше чего нельзя представить» vs. «большее, чем можно представить»
Невразумляемый «безумец»: перформативность и притворная референция
«Пять путей» Фомы Аквинского: «свободная достоверность» и «аналогическое именование»
Понятия разума как «свинцовое оружие» полемики: via eminentiae Иммануила Канта
Раздел III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ
А.В. Марков | ФИЛОСОФСКАЯ ДИСКУССИЯ КАК ПАРАДИГМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ: ГЕОРГИЙ СХОЛАРИЙ ПРОТИВ ГЕМИСТА ПЛИФОНА
Н.Е. Асламов | «ИСТИНА СИЛЬНЕЕ КРАСНОРЕЧИЯ»: СТРАТЕГИЯ МАРТИНА ЛЮТЕРА В СПОРЕ С ЭРАЗМОМ РОТТЕРДАМСКИМ ОБ ОТНОШЕНИИ К ВОЙНЕ
Раздел IV. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ СПОРЫ
Е.К. Карпенко | СПОР О ПРИРОДЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ: БЕРНАР ПАЛИССИ ПРОТИВ АЛХИМИКОВ
От текста к опыту: университет и новые формы организации знания
О водах, солях, окаменелостях и «кабинетах диковин»
З.А. Сокулер | ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В «ДИАЛОГЕ О ДВУХ ГЛАВНЕЙШИХ СИСТЕМАХ МИРА» ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ
Раздел V. НЕЛЕГИТИМНЫЕ И НЕКЛАССИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АРГУМЕНТАЦИИ
В.В. Смирнова | СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПРИМЕР И ПРОБЛЕМА АРГУМЕНТАЦИИ: ЦИКЛ ПРОПОВЕДЕЙ DE TEMPORE ИАКОВА ВОРАГИНСКОГО
Риторика примера от Античности к Средним векам
Примеры в проповеди Иакова Ворагинского
П.В. Соколов | ГЕРМЕНЕВТИКА И СОФИСТИКА: SOPHISMATA В ЭКЗЕГЕЗЕ ДЖОНА УИКЛИФА И ЕГО ОППОНЕНТОВ
Ю.В. Иванова | СТРАТЕГИИ АРГУМЕНТАЦИИ В ГУМАНИСТИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ XV в.
И.А. Боганцев | ФРЭНСИС БЭКОН: ПРАГМАТИКА АВТОРИТЕТА
А.В. Голубков | ОТ DISPUTATIO К CONVERSATIO ERUDITA: СТРАТЕГИИ АРГУМЕНТАЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ АКАДЕМИЯХ XVII в.
И.В. Хоменко | ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКИ НА УКРАИНЕ КОНЦА XVI — НАЧАЛА XVII в.
Указатель (к печатному изданию)
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
Персонажи Библии
Книги Библии
Об авторах
Примечания
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
Книга посвящается памяти замечательного русского ученого Андрея Владимировича Полетаева
Ю.В. Иванова | ВВЕДЕНИЕ
Некогда Люсьен Февр, один из основателей «Школы Анналов» и крупнейших реформаторов исторической науки XX столетия, посетовал на то, что его товарищи по научному цеху парадоксальным образом проходят мимо самых, казалось бы, очевидных тем исторического исследования: «Подумать только — у нас нет истории Любви! Нет истории Смерти. Нет ни истории Жалости, ни истории Жестокости. Нет истории Радости»[1]. Еще недавно историк науки мог бы присоединить к этим и свои жалобы: не существовало истории объективности, истории достоверности, истории факта, истории объектной реальности. В последние годы ситуация заметно изменилась. Если у ученых собеседников Томаса Куна, по его собственному признанию, гипотеза о наличии у научного факта исторического измерения могла вызвать лишь недоумение[2], то в исследовательской литературе последних десятилетий благодаря усилиям критиков позитивизма рационально непрозрачные составляющие новоевропейской науки сделались вполне легитимным и почти уже традиционным предметом рефлексии. Написаны истории объективности как принципа, обосновывающего когнитивную значимость научных содержаний в нововременной науке[3], биографии объектов научного знания[4], генеалогии научных фактов[5] и социальные истории истины[6].
Развитие истории науки на протяжении XX столетия можно представить как постепенное преодоление «имманентистского» монизма классической модели. Представители этой дисциплины все более последовательно допускали присутствие «нетеоретических» элементов в проблемном поле своей науки. При этом каждая новая версия истории науки, кажется, стремится превзойти предшествующую в методологическом либерализме: так, А. Койре в своей полемике с П. Дюгемом говорит об обусловленности научной картины мира богословскими и философскими воззрениями[7], а Т. Кун в своих работах по истории ранненововременной науки открывает явления социального конструирования научного факта и детерминированности научных практик параметрами господствующей «парадигмы»[8]. Тем самым наука начинает мыслиться как сложный и гетерогенный объект, включающий в себя множество внетеоретических составляющих. В свете этой общей тенденции кажется удивительным и почти необъяснимым то обстоятельство, что до сих пор в литературе почти совершенно отсутствуют попытки создать общую историю развития формальной структуры научного рассуждения и факторов, ее определявших. Отдельные работы, посвященные поэтологическим аспектам научной литературы и социальному и коммуникативному контексту функционирования научного знания, так и не были объединены в историю аргументации. В то же время уже написаны даже истории теории аргументации[9]. Одним из немногочисленных исследовательских усилий на этом пути можно считать разве что междисциплинарный проект «Типология источников западноевропейского Средневековья», во главе которого стоял Л. Женико (Лувен, Бельгия)[10].
Между тем история принципов и техник аргументации принадлежит к числу исследовательских сюжетов, которые находятся на водоразделе множества проблемных полей и именно поэтому предоставляют ученым редкую возможность пересечь границы целого ряда дисциплин, как исторических, так и философско-теоретических: истории логики, теории аргументации, истории философии, истории риторики — и этот список можно было бы продолжить. Однако очевидно, что у этого направления исследований должны быть и иные основания легитимности, помимо собственно принципа междисциплинарности. Вот одна из центральных методологических гипотез, которой придерживались авторы настоящей монографии: парадигматические трансформации, которые составляют субстанцию истории науки в ее традиционном понимании, во многом были мотивированы, а зачастую и порождались той полемической средой, в которую оказывались вовлечены те или иные научные содержания. Значение и статус какого-либо научного содержания в подавляющем большинстве случаев оказываются определены полемической средой его бытования: университетскими дискуссиями, реакцией оппонентов и т.д. Кроме того, создание истории аргументации принципиально важно для реконструкции форм самосознания европейской науки. Использование определенных процедур доказательства выступает фактором, определяющим границы науки и критерии «научности» и проясняющим принципы демаркации естественных и гуманитарных дисциплин, определяющие нововременное научное мышление.
Авторы представляемой книги отдают себе отчет в том, что сама возможность проекта истории аргументации может вызвать законные сомнения. До настоящего времени история аргументации как легитимный предмет изучения существовала лишь в качестве одного из разделов истории риторики или истории логики. Каковы же могут быть основания для выделения истории аргументации как самостоятельного направления исследований в рамках истории науки? Как возможно создать историю аргументативных практик, не сводя ее, с одной стороны, к тавтологическому описанию полемик, а с другой стороны, не отделяя ее вовсе от исторического материала, тем самым превращая ее в раздел теории аргументации или нормативистской истории науки? Необходимой предпосылкой создания истории аргументации является синтез дескриптивной методологии эмпирического историко-филологического исследования и теоретической методологии дисциплин философского цикла. Господство риторической культуры на протяжении значительной части донововременного периода истории европейской науки, детерминированность производства и трансляции знания институционально зафиксированными нормами научной коммуникации обусловили необходимость обращения для экспликации аргументативной структуры научных текстов к методологическому аппарату наук о языке и тексте: филологии, философской герменевтике, семиотике, теории исторических нарративов, теории коммуникативной рациональности. Еще одним базовым методологическим принципом, которым руководствовались в своей работе авторы монографии, стало совмещение собственно исторического и историко-социологического подходов к изучению интеллектуальной культуры Западной Европы Средних веков — раннего Нового времени: «история идей», перспективистское описание линейного процесса трансляции и аккумуляции научных содержаний, была дополнена историей институциональных и неинституционализированных (салоны, академии) «мест» и форм производства знания, социальных и политических условий деятельности интеллектуалов. Наконец, история научной аргументации должна быть дополнена историей аргументативных практик в литературе, богословии, в том числе популярном, позднее — в публицистике: подобное расширение предметной области позволяет пролить свет на функционирование рациональной аргументации и аналитических процедур, составляющих формальную структуру научного знания, в других областях интеллектуальной культуры.
История аргументации органично распадается на несколько проблемных блоков (это деление нашло отражение и в структуре настоящей монографии): прежде всего процедуры доказательства и способы построения научного текста должны быть исследованы in situ, иными словами, необходимо сделать предметом анализа наиболее репрезентативные образцы научных дискуссий, отражающих состояние полемической культуры в ту или иную эпоху. Таким «парадигматическим» значением для европейской интеллектуальной культуры обладал, к примеру, спор о предопределении, которому отдали дань лучшие богословы латинского Запада — об обстоятельствах рождения и о ранней истории этого спора речь идет в разделе I нашей книги[11]. Иногда истоки великих дискуссий, в течение многих столетий определявших облик европейской культуры, остаются в тени и безвестности. И в этом случае исследователь получает право дать волю своему антикварному инстинкту и потратить не один год на розыски источников и палеографическую работу. Так, ранние этапы полемической рецепции астрологических текстов в Европе практически не исследованы. Первый антиастрологический трактат, написанный доминиканцем Герардом из Фельтре, не только никогда не был издан, но и почти никем, по всей видимости, не был прочтен: вся исследовательская литература о нем ограничивается двумя статьями. Благодаря исследовательским усилиям М.А. Сорокиной эта лакуна в историографии отчасти была заполнена[12].
Традиционная для классической истории науки и философии иерархизация анализируемого материала имеет одним из следствий маргинализацию тех способов рассуждения о центральных философских или научных проблемах, которые представляются архаичными или нерепрезентативными. Так, полемика о вложении интенциональных качеств в иезуитской литературе периода Второй схоластики нечасто упоминается в историях новоевропейской философии субъективности, в то время как она представляет интерес уже потому, что ее участники оперировали концепцией личности, отличной от картезианского представления о субъекте[13].
Очевидно, однако, что история полемик и реконструкция функционирования отдельных аргументов невозможны без анализа структуры текста. Особенный интерес представляет логика построения богословских сочинений святоотеческого века, так как в этих сочинениях все области интеллектуальной культуры — философия, богословие, наука, риторика — встречаются в синтезе, которому никогда уже не суждено повториться[14].
Для каждой исторической эпохи авторы монографии попытались создать набросок соответствующей версии истории аргументации. В схоластический период создателю такой истории приходится столкнуться с целым рядом апорий. Схоластическая наука представляет собой своего род антипод нововременной, так как ею была выработана альтернатива тем способам формализации научных содержаний и аргументативных процедур, которые были созданы математизированной наукой Нового времени. Для современного исследователя это одновременно и большая удача, и источник серьезных проблем, ведь высокая степень рефлексивности средневековой полемической культуры провоцирует подмену аналитических процедур исследования тавтологическим воспроизведением источников. Этот парадокс объясняет и неравномерность в распределении исследовательского интереса к эксплицитно полемическим текстам (протоколам диспутов, трактатам о софистических аргументах) и к аргументативному содержанию памятников, составленных в форме монологического рассуждения или комментария. Протоколы диспутов традиционно служат предметом рассмотрения прежде всего для историков средневековой университетской культуры; трактатам de sophismatibus посвящены сотни историко-логических исследований[15], существуют различные версии транскрипции их содержания на языке формальной логики[16]. В то же время, насколько нам известно, не существует ни одной работы, посвященной фигуре софиста в схоластической литературе или роли софистической аргументации в богословских и философских текстах (исключая, разумеется, логические тексты и трактаты о грамматическом искусстве). Исследования авторов монографии должны были хотя бы отчасти восполнить этот пробел, сделав предметом рассмотрения, помимо прочего, и функции софистического аргумента в позднесредневековой экзегетической литературе.
Должно быть, никакой другой период культурной истории Европы не породил столько историографических химер, сколько эпоха Ренессанса, названная «Веком риторики». Оптика, сформированная позитивистской концепцией науки, заставляет исследователей отыскивать в памятниках гуманистической литературы позитивное содержание, вовсе чуждое их принципиально нетеоретическому стилю мышления. Эта же интуиция превращает в «теории» и «концепции» жанровые и стилистические топосы или цитации из античных авторов: возникающие в результате этой аналитической аберрации историографические мифы (можно вспомнить здесь «гражданский гуманизм» Э. Гарена) впоследствии на многие годы определяют представления академического сообщества о гуманистической культуре. Эта редукционистская установка, побуждающая исследователей видеть в памятниках литературы эпохи Возрождения то ли несовершенные прообразы научного текста времен господства позитивизма, то ли странную разновидность изящной словесности, в новейшей литературе начинает пересматриваться. Для этого задействуются современные методы анализа текста, теории риторики и коммуникативной рациональности. Быть может, одной из наиболее важных задач новой историографии гуманизма могла бы стать экспликация эвристических потенций различных жанров гуманистической литературы. Гуманистическая эпоха создала жанровые формы, призванные в самой композиции текста отразить парадоксы характерного для нее сознания времени и проистекающие из этого сознания, разорванного между авторитетом прошлого и суверенитетом настоящего, апории, порождаемые не вполне еще освоенным, но уже интенсивно употребляемым языком античных классиков. Наиболее выразительной из этих форм — гуманистическому диалогу — в нашей истории аргументации посвящено особое место[17].
Однако корректное исследование науки как речевой практики было бы невозможно без обращения к тем формам коммуникативной культуры и институциональной организации, которые структурируют научную жизнь ранненововременной Европы. Академическая культура (в том числе культура устного и письменного научного диспута) с характерными для нее требованиями к научной аргументации, к формам и способам общения в академических кругах вырастает из практик общения, распространенных в сообществах гуманистов эпохи Возрождения и в интеллектуальных салонах и академиях раннего Нового времени.
В определении методов и предмета своих исследований авторы монографии исходили из того, что в донововременной интеллектуальной культуре радикально иным образом, нежели в культуре XVII-XX вв., выстраивается демаркация между «естественными» и «гуманитарными» науками, между философией и естественными науками, между гуманитарными науками и философией. Если искать современный аналог господствовавших в эти эпохи принципов самоосмысления наук и практикуемых ими способов производства знания, то приходится сделать вывод, что сегодня сходными методами пользуются лишь науки гуманитарного цикла. С этой точки зрения все науки означенных эпох следует квалифицировать как «гуманитарные». Авторов научных текстов, творчество которых предшествует научной революции XVII в. или современно ей, характеризует специфический синкретизм мышления, позволяющий беспроблемно соединять в научной деятельности методологический аппарат естественных, гуманитарных наук и эстетических практик: так, Исаак Ньютон использует библейскую герменевтику для исследования природы, а венецианские гуманисты говорят о тождественности интерпретативных инструментов, служащих для анализа текста, с одной стороны, и событий и явлений исторического и физического мира — с другой. Основанием здесь служит презумпция «текстуальности» знания, к какой бы области науки оно ни принадлежало. Эта особенность позднесредневекового и ранненововременного научного мышления становится хорошо видна на материале естественно-научных сочинений эпохи, таких как «Диалог о двух главнейших системах мира» Галилео Галилея[18]. Позитивное изложение новаторских научных концепций оказывается заключено в жанровую рамку гуманистического диалога, предполагающего отсутствие «завершающего авторского видения» и инстанции вынесения окончательного решения. Ситуация полемики и плюрализма мнений тем самым консервируется, а мнение автора вычитывается из текста лишь посредством изощренных герменевтических операций.
Несмотря на то что связь политики и языка была осознана еще античными софистами, в некоторых областях современной политической истории донововременной Европы господствует позитивистская концепция исторического источника. Поэтому пересмотр традиционных для исторической науки способов исследования социально-политической проблематики, в частности военно-политической, и анализ аргументативного инструментария, используемого авторами раннего Нового времени для обоснования различных этических концепций войны, является актуальной задачей не только для истории аргументации, но и для истории политической мысли. Если исследователи военно-политической истории Европы только еще начинают осознавать необходимость анализа языка и структуры текста, то для историков политической культуры Византии анализ риторики — необходимая составляющая профессиональной компетенции, ведь в поздней Византии риторические задачи самопрезентации структурируют политическую практику, порождая парадоксальное явление множественности этических языков.
Разумеется, история аргументации в доклассическую эпоху должна уделить особое внимание нелегитимным процедурам доказательства. Более того, сама граница «легитимного» и «нелегитимного» в эту эпоху представляется зыбкой и неопределенной. Так, в философском дискурсе классической древности различные виды фикции — традиционные мифы, а также «аналогии» и «подобия» — существовали наравне с рациональной аргументацией, а в ряде случаев исполняли конститутивную функцию в построении рассуждения (достаточно напомнить хотя бы о роли мифов в диалогах Платона)[19]. Очевидно, что статус фикции оставался своего рода «нервным узлом» европейской культуры на всем протяжении донововременной стадии ее развития. Таким же неопределенным был и во многом остается в исследовательской литературе статус софизма.
Однако фикциями и паралогизмами многообразие нелегитимных способов аргументации отнюдь не ограничивается. Так, обращаясь к исследованию богословских полемик в восточноевропейском регионе в раннее Новое время, мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: стороны оперируют аргументами, отрицая правомерность построения рациональной аргументации, так как всякая рациональная практика объявляется делом, недостойным благочестивого христианина[20]. Если мы обратимся к европейской истории науки этого же времени, то обнаружим, что триумф экспериментального метода был в значительной степени подготовлен рекламной кампанией, организованной членами континентальных академий во имя своих институциональных интересов: целью этой кампании было возвеличение фигуры Ф. Бэкона и ассоциируемой с его именем индуктивной науки[21].
Даже если мы не охватили не только всех вообще сторон донововременной истории аргументации (на это, конечно, мы не могли бы и претендовать!), но и всех наиболее существенных ее аспектов, то все же, надеемся, эта книга поможет читателю, погруженному в гуманитарно-научные занятия, понять, что он делает, когда цитирует, обосновывает, располагает свой материал внутри статьи, обращается к тому или иному жанру научного текста и т.п. Открытие исторического измерения тех элементов исследовательского инструментария, которые ныне безотчетно причисляются к мелочам «научного быта», вполне может претендовать на роль инструмента внутренней критики научного мышления. Привычные категории аналитического языка, давно превратившиеся в termini technici, оказываются сложными и многосоставными, становятся объектами изучения с полной противоречий судьбой. Научные положения, ныне обладающие статусом аксиом, предстают следствием многократных смысловых подмен, нелегитимной контекстуализации авторитетных содержаний, а то и продуктом определенного социального или коммуникативного узуса. История аргументации в определенном смысле — оператор границ научного знания. Подобно тому как софистика, по слову Барбары Кассен, — оператор границ философии.
[1] Февр Л. Бои за историю / пер. с фр. М.: Наука, 1991. С. 123.
[2] Kuhn T. Foreword // Fleck L. Genesis and Development of a Scientific Fact. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1981. P. VIII.
[3] Daston L., Galison P. Objectivity. N. Y.: Zone Bocks, 2007.
[4] Daston L. Biographies of Scientific Objects. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000.
[5] См., например: Shapiro B. J. A Culture of Fact: England, 1550-1720. Ithaca; L.: Cornell Univ. Press, 2003; Fleck L. Op. cit.
[6] Shapin S. A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-century England. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1994.
[7] Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985.
[8] Кун Т.С. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
[9] См., например: Van Eemeren F.H., Grootendorst R., Henkemans F.S. Fundamentals of Argumentation Theory: a Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments. Mahwah: Erlbaum, 1996.
[10] См. итоговую монографию проекта: Typologie des sources du moyen âge occidental / éd. L. Genicot. Turnhout: Brepols, 1972.
[11] См.: Антонова Е.В. У истоков схоластики: способы аргументации в споре IX века о предопределении (с. 27-69 наст. изд.).
[12] Сорокина М.А. Стратегии аргументации и полемики у одного раннего критика астрологии: «Сумма о звездах» Герарда из Фельтре (с. 70-108 наст. изд.).
[13] Подробнее см.: Вдовина Г.В. «Аргумент от камня»: схоласты XVII в. о вложении интенциональных качеств (с. 196-221 наст. изд.).
[14] Подробнее см.: Михайлов П.Б. Богословские стратегии в трактате Оригена «О началах» (с. 17-26 наст. изд.).
[15] Bazan B.C., Wippel J.W., Fransen G., Jacquart D. Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine. Turnhout: Brepols, 1985; Weisheipl J.A. Curriculum of the Faculty of Arts at Oxford in the Early Fourteenth Century // Medieval Science. 1964. Vol. 26. P. 143-185; Lawn B. Rise and Decline of the Scholastic Quaestio Disputata: with Special Emphasis of Its Use in the Teaching of Medicine and Science. Leiden; N.Y.; Cologne: E.F. Brill, 1993; Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Fourteenth Century / ed. by Ch. Schabel. Leiden: E.F. Brill, 2007. См. также библиографию к статье Е.Н. Лисанюк (с. 130-158 наст. изд.).
[16] См.: Лисанюк Е.Н. Полемика и средневековый логический «диспут» (с. 130-158 наст. изд.); Dutilh-Novaes C. Formalizing Medieval Logical Theories: Suppositio, Obligationes and Consequentia // Logic, Epistemology and the Unity of Science. B.: Springer, 2007.
[17] См.: Иванова Ю.В. Стратегии аргументации в гуманистическом диалоге XV в. (с. 385-416 наст. изд.).
[18] См.: Сокулер З.А. Полемические стратегии в «Диалоге о двух главнейших системах мира» Галилео Галилея (с. 319-346 наст. изд.)
[19] См.: Петрова М.С. Полемика эпикурейцев и платоников о допустимости использования вымысла в философских рассуждениях (на примере «Комментария на “Сон Сципиона”» Макробия) (с. 161-173 наст. изд.).
[20] См.: Хоменко И.В. Особенности религиозной полемики на Украине конца XVI — начала XVII в. (с. 463-481 наст. изд.).
[21] См.: Боганцев И.А. Фрэнсис Бэкон: прагматика авторитета (с. 417-435 наст. изд.)
Раздел I. КУЛЬТУРА ПОЛЕМИКИ И СТРУКТУРА НАУЧНОГО ТЕКСТА
П.Б. Михайлов | БОГОСЛОВСКИЕ СТРАТЕГИИ В ТРАКТАТЕ ОРИГЕНА «О НАЧАЛАХ»
Для осмысления опыта богословской систематизации в александрийской традиции мы избрали, наверное, самый яркий пример — трактат Оригена «О началах», относящийся к раннему, александрийскому периоду его творчества. Ситуация, впрочем, значительно усложняется переводным, т.е. по определению вторичным, качеством текста, доступного нам для изучения. Руфин, переводчик трактата на латинский язык и тем самым его главный свидетель в древности, по его собственному признанию, не стремился передать мысль Оригена в точности, где-то сокращая его, а порой и вообще переходя к пересказу. Свое исследование догматической составляющей этого текста мы построим в виде структурного анализа.
Трактат строился по ясному плану, существенно нарушенному еще в древности технологическими особенностями издания текста в виде папирусных свитков, механически соответствующих известным на сегодняшний день четырем книгам трактата. Изначальная структура трактата выглядела иначе, чем сейчас. Заданная самим Оригеном в прологе программа (De Princip. 1. Praef. 4-8), формирующая структуру текста, состоит из девяти позиций: «Апостольское учение... сводится к следующим положениям, — пишет Ориген во вступительном разделе: — 1) един Бог, который все сотворил и создал, Который все привел из небытия в бытие. 2) пришедший Иисус Христос рожден от Отца прежде всякой твари. Он воплотился, сделавшись человеком, хотя был Богом. родился и пострадал истинно; истинно Он воскрес из мертвых. и вознесся. 3) сопричастен Отцу и Сыну Святой Дух. 4) человеческая душа. по выходе из этого мира получит воздаяние по своим заслугам. 5) Наступит время воскресения мертвых. 6) всякая разумная душа обладает свободой решения и воли. 7) церковное предание учит, что дьявол и аггелы его во всяком случае существуют. 8) этот мир сотворен и начал существовать с известного момента времени и, по причине своей порчи, должен быть спасен. 9) Писания созданы Духом Святым и имеют не только открытый смысл, но и. скрытый.». Такова богословская программа, намеченная Оригеном и отраженная им в основном тексте трактата.
Исследования 1960-1970-х годов выявили в основном содержании книг «О началах» своеобразную «двойную экспозицию». Эта теория была разработана в ходе проведения научного семинара по греческой патристике в Сорбонне, которым руководила известный специалист по богословию Оригена Маргарита Арль[22]. Теория двойной экспозиции нашла себе сторонников в лице таких выдающихся знатоков наследия Оригена, как Манлио Симонетти и Анри Крузель — издателей трактата «О началах» в серии Sources crétiennes[23]. Согласно этой теории Ориген построил свой трактат в виде двух взаимодополняющих текстов. Их расположение не соответствует известной нумерации книг трактата. Трактат предваряется вступлением. Восемь глав первой книги дополняются тремя первыми главами второй книги и таким образом составляют первую экспозицию (De Princip. 1. 1-8; 2. 1-3). Основными предметами рассуждения здесь выступают Лица Святой Троицы, разумные существа — ангелы, демоны и человек — и тварный космос. Вторая экспозиция более пространна. Она состоит из 17 глав: начиная с 4-й главы второй книги по 3-ю главу четвертой книги. Здесь обсуждаются те же предметы, рассмотренные практически в неизменной последовательности, но гораздо подробнее. Кроме того, специально обсуждаются вопросы человеческой свободы и методы толкования Священного Писания — в знаменитом «герменевтическом трактате». Первая экспозиция характеризуется издателями как философский трактат о богословских предметах, вторая — как полемический трактат, направленный против еретиков. В целом трактат «О началах» завершается кратким заключением (Recapitulatio), занимающим последнюю 4-ю главу четвертой книги. Здесь вновь кратко затрагиваются основные богословские предметы — догмат о Святой Троице, о сотворенных же предметах — разумных существах и о мире — говорится, сравнительно с последовательностью предыдущих изложений, в инверсии — сначала о мире, а затем о разумных существах. Наконец, заключительный раздел завершает краткий гносеологический фрагмент, в котором говорится о возможностях познания умопостигаемого посредством божественного чувства (sensus divinus).
С существенным уточнением теории двойной экспозиции, фактически, с ее коренным переосмыслением выступил Чарльз Канненгиссер (1989-1992)[24], известный специалист в области изучения древней патристики. Согласно его выводам трактат «О началах» состоит из двух трактатов, соответствующих двум экспозициям в рубрикации теории М. Арль: первый — «“О началах” в собственном смысле», как выражается Канненгиссер — «De Principiis proper» — представляет собой цельное сочинение «с симметричными предисловием и заключением, окружающими 11 глав, из которых последние три служат дополнением к основной части в виде двух экспозиций и заключения»[25]. Полученный таким образом текст имеет своими предполагаемыми оппонентами гностиков-валентиниан. Вторая экспозиция — с 4-й главы второй книги до 3-й главы четвертой книги — дополнительная, по всей видимости, более поздняя редакция Оригена, обращенная уже по преимуществу против гностиков-маркионитов.
Несомненная исследовательская заслуга Канненгиссера заключается в том, что он обратил внимание на еще одну дополнительную продуктивную для построения структуры дистинкцию, введенную Оригеном во вступлении (De Princip. 1. Praef. 2) — parva et minima / magna et maxima (вопросы незначительные и второстепенные / вопросы существенные и первостепенные). Именно этим различением он и руководствуется при реинтерпретации структуры трактата. Под предметами важными Ориген разумеет вопросы собственно богословские — о Боге, Иисусе Христе, Святом Духе, а также вопросы ангелологии. К предметам второстепенным относятся вопросы мироздания — космология. Иными словами, демаркация между предметами значительными и второстепенными проходит по линии «умопостигаемое / чувственное» — дихотомии, выработанной еще в платонической философии.
Таковы известные на сегодняшний день теории структуры трактата «О началах». Ориген три раза подходит к обсуждению одних и тех же предметов, намеченных во вступлении, с незначительной вариативностью в порядке их изложения. Он как бы подбирает подходящие линзы для чтения одних и тех же букв, наводит различную степень резкости — в первый раз достаточно расплывчато, во второй — предельно отчетливо, и в третий — охватывает предмет одним общим взглядом. Для нас в данном случае ценным может оказаться не столько содержание всех трех изложений, сколько сам метод последовательного подхода к рассмотрению одного и того же предмета с различной степенью подробности. Собственно говоря, именно это и составляет до сих пор неразрешенный вопрос: что именно заставило Оригена три раза обсуждать одни и те же темы в их практически неизменном виде? Попытку ответа на этот вопрос предпринял первый исследователь структуры трактата «О началах» Базилиус Штайдле[26]. Он усматривал в тройной структуре текста образовательную стратегию, сформулированную в позднем платонизме. Коротко она сводится к поступательному прохождению трех ступеней: этики — физики — богословия. В соответствии с этим он предложил понимать структуру трактата в виде трех несколько видоизмененных концентрических циклов: логики — физики — богословия. Однако для всех последующих исследователей надуманность такого объяснения была совершенно очевидна: содержание трактата никак не подкрепляет эту интерпретацию.
На мой взгляд, разгадку тройной структуры трактата «О началах» (две экспозиции и заключение) нужно искать в самом тексте, изобилующем обоснованиями логики своего построения. В прологе к трактату Ориген задает двойную рамку для своего изложения. Он вводит четкое разграничение внутри церковного знания, или божественного Откровения, выраженного «в словах и учениях Христа» (Christi verbis doctrinaque)[27]: «Церковное и апостольское предание (ecclesiastica et apostolica traditio — De Princip. 1. Preaf. 2), — пишет Ориген, — передано нам двояко: Апостолы, проповедуя веру Христову, об одном говорили прямо и ясно (manifestissime tradiderunt)... О другом же они только свидетельствовали, что оно существует, но каково содержание этого знания и откуда оно происходит, умолчали» (de aliis... dixerunt... quia sint, quomodo autem aut unde sint, siluerunt — De Princip. 1. Preaf. 3), преследуя тем самым определенную цель. Ведь, соблюдая некоторую недосказанность, они тем самым предоставили возможность настойчивым и взыскательным к содержанию церковной веры деятельно постичь истину. Итак, одно — это общеизвестные определения или дефиниции церковного богословия, другое — знание, открытое лишь отчасти, и потому в его постижении возможны предположения, а значит, в принципе нельзя исключать и возможных ошибок. На протяжении всего трактата Ориген остается верен введенному различению, уточняя лишь оттенки.
К первому роду предметов, ясно определенных в апостольской проповеди, относятся такие положения церковной проповеди, как: догмат о единстве Божием, о Боге Творце, о Боге отцов Ветхого Завета, о пришествии Господа Иисуса Христа во спасение Израиля и язычников, о том, что Бог — Его Отец, Он дал закон, пророков, Евангелие и апостолов; о том, что Христос воспринял наше тело, истинно пострадал и воскрес; а также о том, что Отцу и Сыну сопричастен по чести и достоинству Святой Дух. К этому же ряду объективного церковного знания относится учение о посмертной судьбе человеческой души: воздаяние за добродетель или за грехи, учение о телесном воскресении, учение о человеческой свободе, делающее нас ответственными за дела нашей жизни.
Ко второму роду знания — тому, что доступно только отчасти, — относятся лишь «частичные сведения и отдельные утверждения» (exempla et affirmationes — De Princip. 1. Preaf. 10): о происхождении Святого Духа, о происхождении человеческой души, о происхождении ангелов и бесов, о времени, предшествовавшем происхождению мира, о времени, последующем за уничтожением мира. Совокупность этого таинственного и сокрытого знания концентрируется Оригеном в понятии «бестелесное» (ασώματον), имеющем столь богатые философские и богословские коннотации в древнегреческом языке. Кроме того, не явлена природа астрономических объектов — солнца, луны и звезд: имеют ли они духовную природу, или они отчасти материальны. Наконец, Божественное Писание само по себе также неоднородно. Оно содержит как общезначимый и очевидный смысл, так и некоторые «сокровенные таинства и образы божественного знания». Необходимым условием постижения неизвестного в божественном откровении в первую очередь является одаренность благодатью Святого Духа разуметь божественную мудрость и науку (De Princip. 1. Preaf. 3). В этом отношении немалое значение Ориген уделяет также навыкам логического мышления. Целью всей этой грандиозной богословской работы служит создание некоего «последовательного и законченного учения» (seriem quandam et corpus — De Princip. 1. Preaf. 10), иными словами — некоей цельной богословской системы, состоящей из всей совокупности доступного человеку знания — как явного, так и сокрытого.
Итак, пространство, в котором движется рассуждение Оригена, пролегает между двумя полюсами: определенными церковью догматами и сокровенными богословскими тайнами, явленными лишь отчасти. И это пространство постоянно сокращается. Сфера явленного, напротив, непрерывно расширяется и достигнет своей полноты в эсхатологической перспективе. Тогда только и можно говорить об окончательном складывании богословской системы. Нам даны общие очертания, самое важное в божественном откровении. Ориген, если можно прибегнуть к такому образу, как бы расчищает икону, снимая слой за слоем внешние напластования и все более и более отчетливо прорисовывая прототип и продвигаясь таким образом в трансцендентное пространство. Первый слой — наиболее доступный и общий — он строит на основании евангельских определений и последовательных размышлений, второй слой — более глубок; на этом уровне открывается детальная прорисовка выделенных прежде положений апостольского учения; наконец, третий и последний слой — открытие изначальной простоты образа, представленное в виде рассуждений, доведенных до формульной сжатости. Замечательно, что именно на этом месте трактат обрывается как бы на полуслове: «.разумный дух может достигнуть совершеннейшего познания, восходя от малого к большему и от видимого к невидимому, ибо находится в теле и потому восходит от чувственного или телесного к умопостигаемому (intellectualia). умопостигаемое нужно исследовать не телесным чувством, но каким-то другим, которое называется божественным (sensus divinus). Этим-то чувством мы и должны созерцать все те разумные существа (rationabilia), о которых говорили мы выше, этим чувством и должно слушать то, что мы говорим, и читать то, что мы пишем» (De Princip. 4. 4. 10). Именно этой идеей поступательного и все более опытно наполненного восхождения в познании и можно объяснить выбранную Оригеном стратегию при написании его знаменитого трактата.
Другой принципиально важный вопрос, возникающий при изучении текста трактата: о каких, собственно, началах повествует Ориген? Ответы давались разные: М. Арль считает, что началам соответствуют основные предметы изложения — Бог-Троица, существа, одаренные разумом, и материя[28]. Ч. Канненгиссер склонен видеть за ними лишь сугубо богословские предметы, поскольку богословское знание в своем пределе сводится к исповеданию Единого Бога[29]. Попытаемся найти ответ в тексте самого Оригена.
Кажется, в наиболее конкретном смысле о начале или началах Ориген говорит в четвертой книге трактата (De Princip. 4. 1. 7). Это тот редкий счастливый случай, когда мы имеем в своем распоряжении изначальный греческий текст, сохраненный составителями Филокалии — каппадокийцами Василием Великим и Григорием Богословом. Говоря о разнородности, точнее, многослойности текста Писания, Ориген отмечает, что одно представлено ясно (τινα μεν εναργέστατα φαίνεται), другое — скрыто (ετερα δε αποκέκρυπται). Поэтому он призывает ищущих совершенного знания и почитания нашего единого Творца: «постараемся оставить первоначальную проповедь Христа (αφέντες τον της αρχής του Χριστού λόγον[30]), т.е. учение об основании (τουτέστι της στοιχειώσεως)». Начатки учения Христа Ориген проясняет через философскую категорию «первооснова», «основание» (στοιχείωσις). Очевидно, речь идет о тех самых «началах», которым и посвящен трактат. Итак, Ориген призывает оставить обсуждение и размышление об этих началах и попытаться «обратиться к совершенству (έπί την τελειότητα φέρεσθαι), — продолжаем цитировать текст Оригена, — чтобы премудрость, возвещаемая совершенным (ср. 1 Кор. 2, 6), была проповедана и нам. Мудрость же, — говорит апостол, стяжавший ее, — мы проповедуем между совершенными. Другую мудрость сравнительно с мудростью века сего и мудростью властей века сего преходящую. Эта мудрость будет запечатлена в нас отчетливо[31] вследствие раскрытия тайны (κατά άποκάλυψιν μυστηρίου), долгое время соблюденной в молчании, а ныне явленной в писаниях, пророчествах и пришествии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, коему слава во все времена. Аминь».
Выраженная в тексте славословной формулой фермата многократно повышает значение всего этого фрагмента, придавая ему вид промежуточного заключения трактата, в котором проговариваются его основные положения. Так что, по всей видимости, под началами, исследованию которых и посвящен трактат «О началах», следует понимать начатки учения Христова (Евр. 6, 1), на которых и апостол, и Ориген призывают не останавливаться, а продолжать свой путь к обретению совершенного знания и совершенной мудрости. Такое понимание подтверждает также фрагмент из латинской части трактата, в котором Ориген говорит об адресате своего сочинения: оно написано для тех христиан, «кто обыкновенно ищет разумения (курсив. — П. М.) для нашей веры (credendi rationem perquirere solent)» (De Princip. 4. 4. 32).
Очевидно, этот фрагмент дает дополнительный ключ и к основному вопросу, поставленному в ходе исследования: чем можно объяснить циклическую структуру трактата? Избранная Оригеном при создании своего трактата стратегия, которую можно было бы назвать концентрическим выявлением умопостигаемого, обладает большой методологической ценностью. Характер трактата можно теперь определить не столько как догматический (иными словами, дидактический), сколько как диалектический или мистический. М. Арль чутко отмечает, что «трактат Оригена “О началах” — это сочинение, имеющее своей основной характеристикой поиск (un ouvrage de “recherche”). Исходя из свидетельств Писания, собранных в церковном вероучении, оно, с одной стороны, преследует цель углубить вероучение, с другой — противостоять различным богословским отклонениям. При этом сочинение развивается в соответствии с двоякой методологией, включающей в себя элемент продуманной герменевтики и логическое развертывание следствий, заключенных в каждом факте божественного Откровения»[32].
Дополняя церковные апостольские определения собственными рассуждениями (...de vero disputandi, quam difiniendi. — De Princip. 1. 6. 1), Ориген явно формулирует свой метод изложения церковной догматики: исходя из того, что четко определено церковью, он считает необходимым творчески продолжать богословствовать за границами определенного ею. В этом отношении вполне проявляется новаторский характер его богословия. Вместе с тем дерзновенный энтузиазм богословского творчества впоследствии самым печальным образом сказался на судьбе наследия Оригена и во многом предопределил негативное отношение Церкви к его личности. Как известно, большая часть обвинений, предъявленных ему посмертно, была сформулирована как раз на основании трактата «О началах».
Ориген постулирует принципиальную открытость и разомкнутость своей системы. Более того: как нам сообщает его поздний ученик Григорий Чудотворец[33], Ориген часто обвинял внешних философов в самоподчинении своим учениям, своего рода пленении сформированными ими системами. Понятие системы предполагает некую статическую застылость, завершенность формы. Применительно к богословию Оригена такое понимание невозможно. А. Крузель и М. Симонетти, издатели перевода трактата на французский язык, приходят к следующему выводу о характере богословской системы Оригена: «Лично мы, будучи историками, полагаем, что слово система должно совершенно устранить, когда речь идет о трактате “О началах” или об Оригене вообще, ибо оно лишает его мысль естественности, привнося в нее философский и актуализирующий (неаутентичный) элемент. Скорее, для обозначения его corpus'a следует говорить о некоем синтезе, ведь синтез предполагает своеобразное единство противоположностей, различных набросков в их разнообразных смыслах — все то, что действительно характеризует цель Оригена, писавшего трактат “О началах”»[34].
Присоединяясь к этому мнению, можно сказать, что представленное Оригеном в трактате «О началах» богословие следует воспринимать не как доктринальную систему, делающую невозможным никакой богословский поиск или богодухновенное творчество, а как синтез, фиксирующий некий отдельный опыт богомыслия, пережитый Оригеном и предложенный им своей аудитории в качестве возможного, но не обязательного примера. Впоследствии далеко не все стороны этого опыта были восприняты христианскими богословами. Тому пример — выбор филокалистов-каппадокийцев. Они сочли уместным воспроизвести лишь два, хотя и весьма пространных, фрагмента из трактата: рассуждение о свободе воли и герменевтическую часть сочинения. Негативную же рецепцию нам ярко демонстрирует история осуждения отдельных богословских и космологических взглядов Оригена с конца III по середину VI в.
Подводя итог проделанному исследованию структуры трактата «О началах» и основных элементов его содержания, мы можем констатировать, что в своей богословской методологии, имевшей в данном случае образовательное и даже пастырское значение, Ориген руководствовался пафосом непрестанного исследовательского действия, постоянного фронтального углубления богословских знаний. Динамика интеллектуального роста и духовного восхождения описывается необратимым обращением от простых начал веры к высшему знанию. На это явно указывает своеобразная циклическая структура трактата «О началах». Об этом же недвусмысленно свидетельствует ряд приведенных в данной работе высказываний Оригена. Этой особенностью характеризуется в целом вся педагогическая и вероучительная деятельность Оригена, отражающая преобладающую линию развития догматического мышления в александрийской богословской традиции. Именно эта часть наследия александрийского богословия и была воспринята в дальнейшем развитии православного богословия как наиболее ценная.
[22] Первые результаты структурного анализа текста трактата «О началах» М. Арль отразила в статье: Harl M. Recherches sur le Περ'ι αρχών d’Origène en vue d’une nouvelle édition // Studia Patristica. 1961. Vol. 3. P. 57-67. Итоги многолетней работы приведены в статье: Id. Structure et cohérence du Peri Archôn // Origeniana (I colloque international des études origéniennes. Montserrat. 18-21 septembre 1973). Bari: Università di Bari, 1975. P. 1132. См. также: Dorival G. Remarques sur la forme du Peri Archôn // Origeniana... P. 33-46; Id. Nouvelles remarques sur la forme du Peri Archôn // RechAug. 1987. No. 22. P. 67-108.
[23] Origène. Traité des principes. T. 1-2 / ed. de H. Crouzel, M. Simonetti // SC. 1978-1980. No. 252, 253, 268, 269.
[24] Kannengiesser Ch. Origen, Systematician in De Principiis // Origeniana Quinta (V International Origen Congress. Boston College. 14-18 August 1989) / ed. by R.J. Daly. Leuven: Univ. Press, 1992. P. 395-405.
[25] Ibid. P 401.
[26] Steidle A. Neue Untersuchungen zu Origenes Περ'ι αρχών // Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft. 1941. Bd. 40. S. 236-243.
[27] Причем «слова и учения» понимаются расширительно: это не только то, что говорил сам Христос, но и то, что говорили пророки и апостолы во Христе Слове Божием, — это «церковное учение (ecclesiastica praedicatio), переданное от апостолов через порядок преемства и пребывающее в церквах доныне.» (De Princip. 1. Praef. 1).
[28] Harl M. Structure et cohérence... P. 31.
[29] Kannengiesser Ch. Divine Trinity and the Structure of Peri Archon // Origen of Alexandria: His World and his Legacy / ed. by Ch. Kannengiesser, WL. Petersen. Notre Dame: Notre Dame Univ. Press, 1988. P 231-249.
[30] В данном случае Ориген цитирует ап. Павла (Евр. 6, 1): по сем, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству (Διό αφέντες τον τής αρχής του Χριστού λόγον έπ'ι την τελειότητα φερώμεθα).
[31] Далее следует не вошедшее в канонический текст окончание Послания к римлянам 16:25-26: κατά αποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αίωνίοις σεσιγημένου φανερωθέντος δε νυν διά τε γραφών προφητικών κατ’ έπιταγην του αιωνίου θεου εις ύπακοην πίστεως εις πάντα τά έθνη γνωρισθέντος, μόνω σοφώ θεώ διά ’Ιησου Χριστού [φ] ή δόξα εις τούς αιώνας όμήν. Ср. с текстом Оригена: κατά αποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αίωνίοις σεσιγημένου, φανερωθέντος δε νυν διά τε γραφών προφητικών και τής έπιφανείας του κυρίου και σωτήρος ήμών ’Ιησου Χριστού φ ή δόξα είς τούς σύμπαντας αιώνας αμήν.
[32] Harl M. Structure et cohérence... P. 14.
[33] Gregorius Thaumaturgus. In Origenem oratio panegyrica, 14.
[34] Crouzel H., Simonetti M. Introduction // Origène. Traité des principes. T. 1 // SC 1978. No. 252. P. 52.
Е.В. Антонова | СХОЛАСТИКИ: СПОСОБЫ АРГУМЕНТАЦИИ В СПОРЕ IX в. О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ
Введение. Динамика интеллектуального развития при переходе от патристики к схоластике
Всякому, кто изучал историю философии, известно, что средневековая философия как специфический способ философствования возникает задолго до начала собственно Средних веков — во времена Римской империи. Более того, «канон», «образец», «классика» западноевропейской средневековой философии также сформировались к исходу античности, т.е. еще до начала Средневековья, — в корпусе текстов Аврелия Августина (354-430), осуществившего грандиозный религиозно-философский синтез христианской мысли и античной философии. Подобных интеллектуальных высот средневековая философия достигнет впоследствии уже только в период «золотого века» схоластики — в XIII в.
А что же происходило между этими высотами — на протяжении семи веков (с VI по XII)? Два столетия перед «золотым веком» — XI и XII — время поступательного развития. X век — в целом совсем не философский, ибо нашествия норманнов, венгров и арабов отнюдь не способствовали созданию условий для теоретизирования. О IX веке поговорим позднее — собственно, это время и является предметом рассмотрения в настоящей статье.
Что касается предшествующих веков (VI-VIII), то после Августина «на латинском Западе наступает продолжительный период духовного бесплодия», связанный с крушением западной Римской империи. На ее месте возникают и в борьбе сменяют друг друга варварские королевства; «последние римляне» Боэций и Кассиодор стремятся спасти остатки античной образованности и положить их в основу культуры новой эпохи. Происходит «деформация образца» — упрощение, обеднение, схематизация мыслительного универсума, ибо только в таком виде могла произойти его трансляция грядущим поколениям через хаос «темных веков» (VII-VIII вв.)[35].
Новый культурный подъем наступил только в конце VIII — середине IX в. — во Франкском королевстве, которое благодаря Карлу Великому стало тем центром, где удалось воссоединить все сохранившиеся остатки античной и христианской культуры. Эта эпоха, ознаменованная значительным подъемом образованности и культуры, получила название Каролингского Возрождения[36].
Темой настоящей статьи является формирование нового метода теоретического исследования в ходе философско-теологических дискуссий эпохи Каролингского Возрождения. Авторство новой методологии принадлежит Иоанну Скоту Эриугене (ок. 810 — 877) — одному из крупнейших философов Средневековья, которого называли «Гегелем IX века», «первым отцом схоластики», а также «Карлом Великим схоластической философии»[37].
В первой части статьи рассматривается контекст возникновения нового метода — дискуссии того времени по различным теоретическим проблемам; спор о предопределении выделен во вторую часть; в третьей части представлен анализ способов аргументации участников дискуссии о предопределении и показано новаторство Эриугены — введение в методологию исследования принципа рациональности.
1. Каролингское Возрождение: философско-теологические дискуссии
Основные черты интеллектуальной ситуации начального периода Каролингского Возрождения можно увидеть на примере главы придворной Академии, ученого и поэта, англосакса Алкуина (730-804). Именно Алкуин впервые выделил диалектику из семи свободных искусств, видя в ней способ систематизации и правильного истолкования вопросов веры[38]. Более того, Алкуин понимает диалектику не только как искусство мышления, правильного с формальной точки зрения. Диалектика применяет понятия человеческого ума ко всей сфере божественного бытия, поэтому ее значение более широко[39].
Исследователи единодушны в признании того факта, что творчество Алкуина лишено оригинальности. Незыблемыми авторитетами для него являются прежде всего Августин и папа Григорий Великий (ок. 540 — 604). Метод Алкуина — цитирование и компиляция. В Предисловии к своему комментарию на Евангелие от Иоанна он пишет: «Прежде всего я ищу согласия у святого Августина, который усердно трудился над этим Евангелием; затем я беру что-то из писаний святейшего доктора Амвросия; я не отрицаю ни гомилии папы Григория, ни гомилии Беды Достопочтенного, ни слова других святых Отцов. Я цитирую их истолкования, предпочитая использовать их смыслы и слова, а не полагаться самонадеянно на свое собственное мнение»[40].
Если принимать во внимание исторические условия и задачи, которые приходилось решать ученым первого периода Каролингского Возрождения, причина такой жесткой ориентации на авторитетный текст и максимальной элиминации собственных взглядов совершенно понятна. Создание системы образования для обеспечения нормального функционирования государства — огромной империи Карла Великого — могло базироваться только на «возрождении» в значительной части забытого и утерянного античного и патристического наследия: ведь Западная Европа со времени падения Римской империи практически не имела контакта с какой-либо более богатой культурой — отношения с Восточной Римской империей и исламским миром были в основном враждебными. Поэтому любое культурное движение в западном мире того времени было возможно только как новое открытие и освоение наследия прежних времен. Работа деятелей начального периода Каролингского Возрождения состояла в собирании элементов предшествующей культуры, в их систематизации и максимально возможном распространении усвоенного и определенным образом модифицированного знания уже в качестве единого целого.
Для Каролингской эпохи было характерно очень бережное отношение к написанному тексту. Книги стали большим сокровищем: их искали, хранили, переписывали, изучали, комментировали. Собрание докаролингских рукописей классической литературы по своему объему ничтожно мало по сравнению с собранием, которым мы обязаны деятельности переписчиков и критиков VIII-IX вв.[41] Серват Луп, аббат Ферье (805-862), организовал в своем монастыре, помимо переписки, также и сверку текстов[42]. Типичная фигура деятеля Каролингской эпохи — схоларх, полный рвения к обучению, образованию, тренировке интеллекта в спорах, но довольно неоригинальный в мышлении.
Весьма показательной для стиля мышления эпохи является многолетняя дискуссия между противниками и сторонниками адопционизма[43] — учения о том, что Христос, сочетающий в себе божественную и человеческую природы, природой божественной обязан «усыновлению» со стороны Бога Отца. Это учение широко распространилось в конце VIII в. на Пиренейском полуострове; его приверженцами были, в частности, Элипанд, епископ Толедо (ок. 716 — ок. 805), и Феликс, епископ Урхеля (?-818).
Против адопционизма выступили виднейшие теологи того времени: Алкуин, Агобард, архиепископ Лионский (ок. 779 — 840), Паулин, патриарх Аквилейский (ок. 726 — 802). Они обвинили Элипанда и Феликса в арианстве и несторианстве. В свою очередь, Элипанд считал, что позиция его противников, по сути, является монофизитской. Участники спора обменивались обвинениями в ереси. В 799 г. в Ахене состоялся диспут по вопросу о двух природах в личности Христа между Алкуином и Феликсом. Диспут продолжался шесть дней и закончился тем, что Феликс признал себя побежденным и подписал отречение, поскольку Алкуин в этом споре привел такие цитаты из Отцов Церкви, которых Феликс не знал.
Последнее обстоятельство весьма характерно — оно выявляет ту черту средневекового стиля мышления, которую называют ретроспективностью, традиционализмом, обращенностью в прошлое[44]. Абсолютной истинностью обладает Священное Писание, содержащее ответы на все вопросы, но эти ответы даны не явно, а зашифрованы. Чтобы раскрыть смысл написанного, философ должен стать экзегетом. Причем чем ближе он ко времени Откровения, тем правильнее будет его истолкование. Поэтому сочинения Отцов Церкви обладают максимальной после Священного Писания авторитетностью. Чем позднее жил какой-либо христианский мыслитель, тем меньше доверия вызывают его взгляды. Но с максимальной осторожностью следует относиться к своим собственным идеям, избегать новаторства, постоянно соотносить свои воззрения с авторитетными текстами. Поэтому одним из главных, определяющих признаков учености в ту эпоху было хорошее знание Священного Писания и творений Отцов Церкви. Доказать какое-либо теоретическое положение можно было только приведя как можно большее количество цитат из авторитетных источников. По этой схеме развивались в то время все теоретические дискуссии. Оригинальность мышления была невозможна, да и не нужна этой эпохе.
Ко времени правления Карла Великого относятся и другие философско-теологические споры, имеющие значение для формирования европейской культуры, — о filioque[45] и о почитании священных изображений. Следует отметить, что именно в этих двух дискуссиях была заметно выражена политическая составляющая — противоборство с Восточной Римской империей.
Положение об исхождении Духа Святого от Отца и от Сына[46] было принято на соборе франкских епископов в Жентильи в 767 г. Но во время понтификата Льва III (795-816) патриарх Иерусалимский написал письмо в Рим с жалобой на франкских монахов-бенедиктинцев, которые на горе Елеонской добавляют к Символу веры filioque. Поскольку монахи были на содержании у Карла Великого, папа переслал жалобу к нему. Карл поручил исследование этого вопроса своему ближайшему советнику по церковным делам Теодульфу (сер. VIII — 821), который — согласно принятой в то время методологии теоретического исследования — в сочинении «О Святом Духе» (De Spiritu Sancto)[47] собрал и сопоставил авторитетные мнения; и на соборе 809 г. в Ахене было принято решение о включении filioque в Символ.
Несмотря на то что папа Лев III был обязан Карлу не только тиарой, но и жизнью, он отказался включить это слово в Символ веры. С точки зрения Льва III, внесение изменений в Символ веры, принятый во всем христианском мире, нежелательно, хотя с теологической точки зрения предлагаемые изменения, по его мнению, были правомерными[48].
Спор об иконопочитании имеет длительную историю[49]. В Византии это была не только теоретическая дискуссия, но и кровавая борьба. В 787 г. VII Вселенский собор (II Никейский) после почти шестидесяти лет иконоборчества (730-787) восстановил в Восточной Римской империи почитание икон. Папа Адриан I, получив акты собора, отправил Карлу Великому экземпляр их латинского перевода, но перевод этот был чрезвычайно плохим, и в силу этого собору оказалась приписана еретическая точка зрения: поклонение иконам должно быть таким же, как и поклонение Троице.
Для опровержения этого еретического, по мнению франкских теологов, воззрения несколько схолархов из ближайшего окружения короля по его поручению и в русле его указаний написали сочинение, известное под названием Libri Carolini quatuor[50]. Западные теологи, незнакомые с тем синтезом неоплатонизма и христианства, который был осуществлен в Ареопагитиках[51], скорее всего, просто не смогли осознать философскую глубину проблемы образа и символа, лежавшей в основе борьбы иконопочитателей и иконоборцев на Востоке[52].
Для каролингских схолархов сутью проблемы стала правильность интерпретации известного пассажа из книги Бытия (1, 26): «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...» «Правильную», «адекватную» интерпретацию они нашли у Амвросия и Августина: подобие Богу заключается не в формах тела, а в качествах души. Авторы Libri Carolini принимали учение Григория Великого о том, что изображения могут быть нужны для ознакомления неграмотных людей со священной историей. Поэтому иконы являются полезными для спасения, но не необходимыми, их не следует уничтожать (как требовали иконоборцы в актах собора 754 г., объявляя иконы идолами). Но иконы также не должны быть объектом поклонения (как предписывал собор 787 г.) — таковым может быть только Бог.
Исходя из этого авторы Libri Carolini охарактеризовали решения II Никейского собора об иконопочитании как язычество, поскольку они продолжали традицию поклонения статуям или портретам императоров, посылавшимся из Рима во все концы империи. Для франкских теологов все эти изображения — как императоров в языческой древности, так и Христа ныне — только заменители, посредники. В западном христианстве (и в Libri Carolini отчетливо выражена эта позиция) преобладает представление о непосредственной связи человека и Бога. Кроме того, любое изображение может передавать только повествовательное содержание, но не моральное. Моральность есть характеристика внутренней жизни (жизни внутреннего человека, homo interior), которая постигается и выражается только в слове. Поэтому и обучить моральному действию можно не через зрительное впечатление, а только посредством проповеди, т.е. слова.
Подобная ориентация каролингских мыслителей на слово в противоположность изобразительности византийской позиции является выражением более глубокого пласта культурной и — шире — социальной жизни. В Восточной Римской империи фактически не прерывалась древнегреческая культурная традиция, важнейшими чертами которой были образность и пластичность, и сохранилось огромное количество произведений искусства, чего нельзя сказать о западной части бывшей Римской империи. Уже в силу этого мышление западного человека приобрело другую направленность.
Кроме того, характеризуя решения II Никейского собора как возрождение язычества, каролингские деятели представляли свою позицию как, с одной стороны, ортодоксальную, а с другой — рациональную. Согласно Libri Carolini, религия «.предписывает нам испытывать и духовным вкусом пробовать все учения, и из них удерживать только те, которые, будучи предложены авторитетнейшими мужами, подкрепляют умы внутренней питательностью». Во всяком исследовании необходимы рациональные доказательства: «rationali argumento firmandum est»[53].
После Libri Carolini, в которых все же нет крайнего иконоборчества, вопрос об иконопочитании был рассмотрен на Франкфуртском соборе 794 г., созванном по инициативе Карла Великого. Собор более резко выступил против иконопочитания и фактически стал на позиции иконоборчества; и только под воздействием папы Адриана[54] Карл смягчил свою позицию.
После смерти Карла Великого при его преемнике Людовике Благочестивом (814-840) характер дискуссии по вопросу о почитании священных изображений изменился: франкские теологи, прежде выступавшие с единой позиции против византийских идей, теперь начинают дискутировать друг с другом. Парижский собор 825 г. по вопросу о почитании икон поддержал точку зрения, представленную в Libri Carolini. Епископы Агобард Лионский и Клавдий Туринский (?-839) решительно осудили иконопочитание. Первый написал «Книгу против заблуждений тех, которые считают, что следует воздавать раболепное поклонение картинам и образам святых» (Liber contra eorum superstitionem, qui picturis et imaginibus sanctorum adorationis obsequium deferendum putant)[55]. Исходным пунктом его аргументации выступает вторая заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исх. 20, 4), а методом аргументации — цитирование Августина, прежде всего сочинения «О граде Божием» (De Civitate Dei).
Клавдий Туринский был учеником одного из основателей адопционистской ереси Феликса Урхельского. Не разделяя его взглядов по вопросу о человеческой природе Христа, Клавдий воспринимает от своего учителя стиль мышления, имеющий довольно заметный рационалистический оттенок, и необычную для церковного деятеля того времени независимость во взглядах. Иконопочитание он считает языческим суеверием. Возражая несогласным с такой позицией, Клавдий пишет сочинение «Защита и письменное возражение Клавдия епископа против Теодемира аббата» (Apologeticum atque rescriptum Claudii episcopi adversus Theodemirum abbatum)[56]. В ответ на это аббат Сен-Дени Дунгал (? — после 827) выступил с сочинением «Суждения против извращенных взглядов Клавдия Туринского» (Responsa contra perversas Claudii Taurinensis sententias)[57]. Эта полемика развернулась между 825 и 830 гг. Немного позднее появилось направленное против уже умершего Клавдия сочинение епископа Орлеана Ионы (ок. 760 — 841) в защиту икон «О почитании икон» (De cultu imaginum libri tres)[58].
Вопросу о правильной интерпретации греческих терминов посвящено небольшое сочинение «О поклонении кресту» (Libellus de adoranda cruce)[59], написанное Эйнгардом, автором знаменитой «Жизни Карла Великого» (Vita Caroli Magni, ок. 770 — 840), и адресованное его ученику Сервату Лупу, впоследствии аббату Феррье. На основании употребления в Библии греческих слов Эйнгард старается установить точное значение соответствующих латинских: oratio, adoratio и veneratio. В результате анализа выяснено, что (1) oratio — это внутренняя умная молитва, обращенная к невидимому Богу; (2) adoratio — поклонение предмету видимому, причем это поклонение совершается каким-либо образом, имеющим отношение к движениям тела; (3) между словами adoratio и veneratio нельзя провести четкой разницы, и в Священном Писании часто употребляется adoratio вместо veneratio.
Исходя из этого, Эйнгард делает вывод, что не следует отвергать поклонение (adoratio) священному кресту. Это сочинение еще раз свидетельствует о словесном, текстологическом, герменевтическом характере средневекового западноевропейского стиля мышления, когда вопрос о правильном понимании текста становится центральным в исследовании какой-либо содержательной проблемы. Данное Эйнгардом истолкование значений слов расходилось с терминологией Libri Carolini и способствовало признанию постановлений VII Вселенского Никейского собора о поклонении иконам.
Смерть Карла Великого в 814 г. ознаменовала начало конца Каролингской империи. Процесс политической и социальной дезинтеграции стал распространяться и на культуру. Прекратила свое существование основанная Карлом Великим придворная Академия, собравшая схолархов со всей Европы и ставшая центром ее интеллектуального развития. Постепенно угасали светские тенденции в культуре — она вновь уходила в монастыри. Центральной фигурой этого времени становится совершенно иной, по сравнению с Алкуином, человек — его самый известный ученик Рабан Мавр (780-856), в дальнейшем преподаватель школы и аббат монастыря Фульда, затем архиепископ Майнцский.
Главной целью Рабана было повышение образовательного уровня клира. Многие из его учеников стали впоследствии известными теологами. Обширно литературное наследие Рабана Мавра — это и учебные пособия, и теологические сочинения. Комментарии на Священное Писание превосходят по объему все остальные его работы. Однако они представляют собой не прямые комментарии к текстам Библии. К определенному отрывку из Священного Писания приводятся все найденные Рабаном комментарии Отцов Церкви, относящиеся к этому тексту. И лишь затем следует его собственное истолкование всего представленного материала.
Описанная выше структура сочинений Рабана и его современников является отражением интеллектуальных потребностей эпохи. В отличие от начального периода Каролингского Возрождения, главной задачей которого было нахождение, изучение и систематизация авторитетных текстов, для деятелей второго периода характерно стремление максимально подробно прокомментировать сочинения Отцов Церкви, чтобы достичь наиболее адекватного понимания патристического текста, усвоить его и передать ученикам. Исследователь ни в коей мере не претендует на самостоятельную интерпретацию библейских текстов. Предметом его экзегезы является уже имеющееся и обладающее непоколебимым авторитетом истолкование, данное Отцами Церкви.
Таким образом, получалась экзегеза на экзегезу, и это стало основой более свободного теоретизирования. Рост свободы критического обсуждения был следствием, с одной стороны, политических изменений (распад империи Карла Великого подорвал авторитет королевской власти, прежде доминировавший и в духовной сфере), а с другой — прогресса в изучении патристики. Эта свобода обсуждения распространилась теперь и на наиболее теоретические аспекты теологических вопросов.
Заслуживает упоминания небольшое сочинение «Высказывания Кандида об образе Бога» (Dicta Candidi de imagine Dei)[60], авторство которого приписывают Кандиду, монаху из Фульды. В этом сочинении рассматривается — в значительной степени на основе суждений Августина — вопрос о возможности приложения категорий к Богу, а в последнем параграфе, озаглавленном «При помощи какого рассуждения можно доказать, что Бог существует?» (Quo argumento colligendum sit Deum esse?), формулируется, вероятно, первое в христианской философии доказательство существования Бога, развиваемое с помощью диалектики, третьей дисциплины тривиума.
Следует обратить внимание также на дискуссию между Фредегизием, аббатом Турским (?-834), и Агобардом Лионским о субстанциальности небытия. В небольшом сочинении «Послание о ничто и тьме» (Epistola de nihilo et tenebris)[61] Фредегизий, различая абсолютный и относительный аспекты в понимании небытия, приходит к выводу, что nihil (ничто) и tenebrae (тьма, мрак) представляют собой не чистое отрицание, а нечто реальное. Nihil есть то, из чего Бог сотворил мир (ex nihilo), т.е. род всеобщей и неразделенной материи, из которой он образовал все остальное. Этот вывод критикует Агобард в сочинении «Против возражений аббата Фредегизия» (Contra objectiones Fredegisii abbatis)[62], направленном против другого, не сохранившегося трактата Фредегизия. Агобард также приписывает последнему учение о предсуществовании душ, которые соединяются с телом в момент творения.
В 840-850-е годы король Карл Лысый (внук Карла Великого) поощрял распространение среди ученых вопросников по спорным теоретическим проблемам. Формально ставилась цель — найти истинный ответ, которого следовало придерживаться всем подданным короля. Но монархия не имела больше того авторитета, которого удалось достичь ранним Каролингам, чтобы принудить к единству мнений, а возможно, как считают некоторые исследователи, Карл Лысый был вполне удовлетворен наличием разных позиций, основанных на неодинаковых толкованиях Отцов Церкви[63].
Так, в 850 г. он отправил в Реймсскую кафедральную школу вопросник, в котором была поставлена проблема, следует ли рассматривать Бога как чистое бытие без материальной основы. Вопрос этот возник из более общей проблемы отношения души к космосу. Разгорелась дискуссия[64], участники которой по-разному трактовали отрывок из сочинения Августина «О количестве души» (De quantitate animae)[65]. Аббат монастыря Корби Ратрамн (830-868), отвечая на этот вопросник, написал трактат «О душе» (De anima)[66], где собрал и изучил отрывки из сочинений Отцов Церкви по данной проблеме.
Десятью годами позже Ратрамн по просьбе Одона, епископа Бове (860-881[67]), написал новый трактат «О душе, к Одону из Бове» (De anima ad Odonem Bellovacensem)[68] в опровержение учения, претендующего на истинное истолкование указанного текста Августина, о том, что «душа» разделяется и помещается в индивидуальные тела, но остается существовать как источник, из которого индивидуальные сущности получают свое существование, — т.е. душа каждого человека получает свои качества от универсальной субстанции. Ратрамн считает признание anima universalis противоречащим как христианскому учению, так и философии. Чтобы дать адекватную, с его точки зрения, интерпретацию патристического текста, он использует логическую теорию Боэция — рассуждение о реальности универсалий. Из двух вариантов, рассмотренных Боэцием, Ратрамн выбирает решение, которое позднее будет именоваться номиналистическим: роды и виды не являются причиной существования индивидуального, скорее наоборот — единичное составляет причину существования видов и родов; любой род и вид — это результат активности разума, воспринимающего различные индивидуальные существования и группирующего их согласно подобию. Поэтому Ратрамн считает неверным утверждение о том, что частные души не могут существовать, если нет всеобщей души. Душа как род существует только в мысли, а отдельные души, вложенные Богом в отдельные человеческие тела, имеют каждая свое собственное существование и качества.
Другая теологическая дискуссия того времени — спор о таинстве евхаристии, главными участниками которой были Ратрамн и Пасхазий Радберт (785-865), сменивший своего оппонента на посту аббата Корби, — заключалась в выяснении вопроса о том, истинно или только символически превращаются хлеб и вино в плоть и кровь Христа[69].
Даже простое перечисление проблем, служивших предметом дискуссий в Каролингскую эпоху, показывает, что это было время не просто собирания текстов, но и их обсуждения, более того — анализа, так что в целом Каролингское Возрождение непосредственно подготавливало схоластику как теорию и практику рационального обоснования истин веры.
Но самым значительным, именно с историко-философской точки зрения, был спор о предопределении — затянувшийся на долгие годы и охвативший всю ученую Европу. Его начал монах Фульдского монастыря Готшальк, еще в детстве насильно отданный отцом в монастырь и впоследствии ревностно изучавший там сочинения Августина. Результатом этих занятий стало учение о безусловном предопределении одних людей к спасению, а других — к осуждению и погибели, т.е. о двойном предопределении[70]. Готшальк претендовал на восстановление истинного смысла взглядов Августина, искаженных, по его мнению, неправильной интерпретацией.
Майнцский архиепископ Рабан Мавр пишет в обличение Готшалька несколько писем, в которых стремится доказать, что тот извратил учение Августина. К одному из писем приложено маленькое сочинение «Книга о предопределении Бога» (Liber de praedestinatione Dei), в котором Рабан прежде всего обращает внимание на практический вред учения об абсолютном предопределении. Сводя на нет свободу воли, оно ведет к отрицанию ответственности человека за свои поступки[71]: «Не обязательно мне трудиться для отдыха и здоровья моего, ибо если я предопределен Богом к вечной жизни, то я этого достигну, хочу я того или нет; если же я не предопределен, то ничто мне не поможет поступать хорошо и добродетельно, поэтому я не получу в награду вечного блаженства»[72]. Аргументация Рабана состоит в цитировании прежде всего Августина, а также Иеронима Стридонского (342-419/420) и Проспера Аквитанского (ок. 390 — 460), для доказательства того, что Бог никого не предопределяет ко злу и что нельзя смешивать предопределение (praedestinatio) и предзнание (praescitio).
И хотя на соборах в Майнце (848 г.) и в Квиерси (849 г.) учение Готшалька было осуждено, на его стороне оказались многие теологи: епископ Труа Пруденций (?-861), Ратрамн[73], Серват Луп[74], Флор, диакон Лионский[75].
В дальнейшем дискуссия о предопределении и свободе воли развивалась по следующей схеме: все ее участники, осознававшие себя последователями Августина, в сочинениях которого, по их мнению, наиболее полно и правильно изложено решение данной проблемы, разделились на два лагеря и обосновывали свою точку зрения цитатами из Августина, обвиняя противников в искажении его взглядов. Таким образом, этот спор может и должен быть рассмотрен именно как спор о правильном понимании, истолковании текста, искажение которого считалось грехом и даже безумием. Недаром в сочинениях участников дискуссии часто встречаются фразы такого типа: «Кто, если не безумный, не согласится с тем, что...».
Спор IX в. о предопределении является весьма характерным примером того, что ряд исследователей называют иконографичностью, экзегетичностью средневекового философствования. Не останавливаясь на этом подробно, напомню только, что иконографический метод (его главные категории — первообраз, образ и их соотношение) заключается в том, что философ рассматривает свое сочинение как образ, имеющий целью максимально полное воспроизведение первообраза. В силу многозначности, неисчерпаемости, невозможности до конца постигнуть божественный первообраз (заключенный прежде всего в Священном Писании), никакой образ, созданный тем или иным философом, не рассматривался как окончательный, полностью адекватный. Но как задача, как идеал это всегда имелось в виду[76].
Среди участников дискуссии о предопределении волею судеб оказался Иоанн Скот Эриугена. Епископ Реймсский Гинкмар (806-882) поручил Эриугене написать сочинение в опровержение ереси Готшалька, дать философское решение вопроса о предопределении.
2. Спор о предопределении
Выше уже было отмечено, что спор о соотношении свободы воли и предопределения в IX в. фактически был спором о правильной интерпретации взглядов Августина[77]. Для верного понимания сути дела необходимо иметь в виду, что с точки зрения вопроса о свободе воли человека в творчестве Августина можно выделить (с определенной долей условности) два периода — антиманихейский и антипелагианский.
Проблема происхождения зла — исходный пункт для христианского философствования о свободе воли — ключевая проблема философии Августина. В борьбе с манихейским дуализмом добра и зла Августин придерживается точки зрения неоплатоников: зло есть небытие, ничто, отрицание, порча, отсутствие блага, т.е. полноты бытия у вещей. Зло — несубстанциально. Однако Августин не был согласен с неоплатоническим пониманием источника зла.
Если для Плотина мир — это эманация Единого во множественность, то и зло здесь будет явлением неизбежным и безличным. Для Августина мир — результат благой свободной воли высшего бытия, Бога как личности; соответственно и нарушение этой воли (т.е. грех) может быть делом только свободной (в данном случае злой) воли. Воля Бога по определению не может быть злой. Помимо Бога свободной волей обладает человек, наделенный ей (как и разумом) при творении.
Но свободная воля в человеке от Бога, как же может она быть злой? Ответ на этот вопрос следует из Августинова креационизма. Бог творит мир «из ничего». А так как «ничто», «небытие» — это зло, то становится понятным, что как раз сотворенность человека из ничего и обусловливает возможность обращения его свободной воли ко злу. Таким образом, первый вариант теодицеи у Августина основан на принципе свободной воли человека, в свою очередь получающем метафизическое обоснование.
В антиманихейских сочинениях Августина присутствует и другой вид теодицеи, также имеющий давнюю историю, — эстетико-космологический (его можно найти у стоиков, неоплатоников, а также в посланиях апостола Павла и у христианских апологетов). Так, в сочинении «О свободном выборе» (De libero arbitrio) в 9 главе III книги речь идет о том, что «несчастье грешных душ служит совершенству универсума», а во 2 главе той же III книги — о том, что «тварь, либо пребывая в справедливости, либо падая, служит украшению универсума». То есть зло понимается как необходимая эстетическая антитеза добра, а их контрастность — как основа красоты мира.
Фатализм этой позиции имеет иной характер по сравнению с тем, что присущ поздним работам Августина: в общем порядке универсума не имеет значения, какой именно человек согрешит, а какой нет, важно лишь, чтобы в целом добро и зло составляли гармонию. Вопрос о соотношении предзнания Бога и свободной воли человека решается здесь следующим образом: из того, что Бог знает, что именно воля выберет, не следует, что она не выбирает.
Такова позиция Августина в период борьбы с манихейством.
Борьба Августина и пелагиан представляет собой интересный пример того, как одна и та же социальная реальность и духовная атмосфера времени крушения Римской империи выступили основой для двух диаметрально противоположных мировоззренческих явлений. События дня, порождающие ощущение трагичности бытия и безысходности, на первый план выдвигали вопрос об источнике спасения. Две логические возможности — божественная благодать и свободная воля человека — были реализованы в учениях Августина и Пелагия (360 — ок. 418)[78].
Пелагий считал необходимым вывести римское общество из состояния нравственной апатии и отчаяния, что было бы совершенно невозможно, если проповедовать всеобщую испорченность человеческого рода вследствие первородного греха и благодать, спасающую даром[79]. Отсюда следуют главные положения его учения:
1. Отрицание первородного греха как причины изначальной порочности всех людей: каждый человек рождается безгрешным и обладающим возможностью свободного выбора между добром и злом — так же как и Адам до грехопадения.
2. Свобода воли — единственная основа человеческой деятельности; человек несет полную ответственность за свои поступки.
3. Спасение зависит исключительно от человека, наделенного свободной волей; жизнь и страдания Христа — лишь пример для людей (а не залог спасения).
4. Роль благодати сводится к дарованию человеку свободной воли.
5. Предопределение понимается как вечный акт предведения Богом результатов свободной деятельности человека — точка зрения, близкая к позиции Оригена (ок. 185 — 253/4).
Превознесение свободы воли человека в противоположность благодати, т.е. принцип спасения по делам, — это не что иное, как другими словами выраженная формула римского права: «do ut des» (даю, чтобы ты дал). «Деловитая религиозность», «юридический формализм», «правовая точка зрения» при определении отношений между человеком и богом были характерными чертами древнеримской культурной традиции; однако у Августина они в значительной мере нейтрализовались свойственными западнохристианскому мышлению психологизмом, углубленной саморефлексией, открывающими такие глубины человеческого духа, которые не укладывались в рамки правового мышления.
Непрочность всего происходящего вокруг вызывала у Августина потребность найти его глубочайшую основу, увидеть в исторических событиях не случайность, а общий план и цель. Так возникает труд «О граде Божием» (De Civitate Dei) — первый опыт христианского провиденциалистского истолкования истории как реализации божественного плана. Уже этой идеей свобода воли человека весьма ограничивалась. Кроме того, логически развитые принципы августиновского монизма и креационизма приводили к выводу, что «...создавая мир, Бог заранее знает и предопределяет не только общие принципы его устройства, но и судьбу каждой отдельной вещи, изначально созерцаемую им в идеях своего разума»[80].
Фактически в философии Августина свободная воля была тем идеалом, которому соответствовало лишь первоначальное состояние человека до грехопадения и который совершенно недостижим в земной жизни, т.е. свобода воли человека признается только ради объяснения грехопадения первого человека. Что же касается каждого из потомков Адама, то он уже в силу причастности своему согрешившему праотцу не обладает волей, свободной поистине: теперь человек «свободен» лишь для совершения зла и не может своими силами вести праведную жизнь и заслужить спасение.
Но выражение «воля, свободная ко злу», по сути, неверно, так как Бог, имея в своей власти воли людей и производя в них сами желания, склоняет их куда захочет, т.е. получается, что и сама вера — результат предопределения. Так как природа человека в результате первородного греха коренным образом испорчена, то принципом спасения Августин объявляет благодать, причем неоднократно подчеркивает, что она потому и называется благодатью, что дается даром, незаслуженно. Бог от вечности определил подвергнуть человеческий род осуждению за то преступление, которое он совершит в лице своего праотца Адама. Все люди перед судом его справедливости должны явиться общей «массой погибели» (massa perditionis) и понести заслуженное наказание.
Однако ничем не обусловленное милосердие Бога предназначает определенное число избранных к спасению («Об осуждении и благодати» — De correptione et gratia. XIV, 7). Благодать действует непреодолимо, и ей «не в состоянии противиться никакая человеческая воля» (Ibid., XIV, 43). Но, согласно Августину, это непреодолимое действие благодати не уничтожает свободу, ибо в сознании самого человека действия, совершаемые под влиянием благодати, выступают как внутренне мотивированные действия.
Более того, по Августину, здесь нельзя говорить об уничтожении благодати даже и с «объективной» точки зрения: ведь после грехопадения человек лишен истинной свободы, а восстанавливает ее именно благодать, выступая как фактор освобождения воли от рабства греху. Все эти рассуждения касаются только тех, кто предопределен к спасению, и не имеют никакого отношения к остальной части человечества. Однако каждый человек еще до своего рождения предопределен быть или vasa honoris (сосудом чести), или vasa contumeliae (сосудом бесчестия) (Ibid., IX, 33).
Как видно, отсюда прямо следует предестинационизм Готшалька — учение о двух предопределениях.
Но в отличие от античного понимания космоса, где главным является общая мера, гармония добра и зла, в христианстве универсум воспринимается под знаком субъекта, личности, поэтому важно, кто именно избран, а кто отвергнут, и почему. Августин, следуя апостолу Павлу, дает единственно возможный ответ: основания, по которым одним людям благодать дается, а другим — нет, скрыты от человеческого ума. Но Бог не может быть несправедлив, а значит, созданный им мировой порядок — самый справедливый и лучший из всех возможных. Конечно, Августин понимает, что свобода воли человека — необходимая предпосылка нравственности. И он пытается согласовать ее с предопределением Бога, но в конечном счете признает, что это quaestio obscura (темный вопрос).
Рассмотренные воззрения Августина дают основания для вывода, что претензии Готшалька и его сторонников, с одной стороны, и противников — с другой, на адекватное истолкование взглядов этого отца церкви отнюдь не беспочвенны. Во-первых, в сочинениях Августина действительно можно найти высказывания, подтверждающие противоположные позиции. Во-вторых, и это главное, августинизм по общему своему характеру (сочетание креационизма и трансцендентизма с психологизмом) объективно мог одинаково явиться основой для обеих точек зрения.
С одной стороны, из того, что у Августина Бог от вечности созерцает все в идеях своего разума и в соответствии с этим творит мир, предопределяя его во всех подробностях, логически следует крайний предестинационизм Готшалька (абсолютизация значения воли Бога — бесконечного, и отрицание конечного — человеческой воли — в спасении человека). С другой стороны, психологизм (акцент на внутреннем духовном мире человека как аналоге и поэтому исходном пункте для познания Бога) ставит в центр философской спекуляции конечное, а из этого уже можно вывести, как это делает Эриугена в сочинении «О божественном предопределении» (De praedestinatione Divina), примат свободной воли человека и отрицание предопределения в обычном смысле.
Готшальк, разрабатывая свое учение, основывался на антипелагианских сочинениях Августина, обходя молчанием противоположный аспект проблемы. Эриугена же близок к позиции Августина времени его борьбы с манихейством, но при этом не может пройти мимо его поздних сочинений и истолковывает их весьма своеобразно, создавая целую теорию для обоснования своей интерпретации как максимально адекватной.
Результатом анализа сочинения Эриугены «De praedestinatione Divina»[81] стала реконструкция логической структуры работы в виде последовательности следующих тезисов (эти тезисы можно рассматривать как уровни проникновения философа в сущность исследуемого вопроса, причем каждая новая ступень исследования является либо отрицанием предыдущей, либо показывает ее ограниченность):
I. Существует только одно предопределение.
II. Предзнание Бога отличается от его предопределения тем, что первое относится и к благому, и к злому, а второе — только к благому.
III. Предзнание и предопределение зла невозможны, так как зло есть ничто.
IV. Для Бога и в Боге предзнание и предопределение тождественны и имеют отношение только к благу.
V. Поистине не существует ни божественное предопределение, ни божественное предзнание, имеется лишь божественный мировой закон, определяющий сущность и границы человеческой свободы.
I. Доказательство первого положения — это и есть опровержение учения Готшалька. Главный аргумент Эриугены — идея субстанциального единства Бога, абсолютно исключающего всякую множественность. Здесь он опирается на утверждение Августина о совпадении в Боге его субстанции и атрибутов и на идеи Боэция, подробно развитые в связи с анализом проблемы троичности Бога в работе «О Троице» (De Trinitate).
Далее Эриугена доказывает, что предопределение принадлежит к субстанции Бога, так как оно a definitione (по определению) существовало прежде всякого творения, когда не было ничего, кроме Бога. Из этих двух посылок делается вывод о существовании только одного предопределения.
II. Однако этим проблема еще не решена. В рассуждениях Готшалька Эриугена видит момент, заслуживающий внимания: утверждение о невозможности одной причины для противоположностей — добра и зла (II, 2)[82]. Если причиной первого, без сомнения, является Бог как высшее благо, то вопрос о причине второго ставит проблему теодицеи. Ссылаясь на сочинение Августина «О предопределении святых» (De praedestinatione Sanctorum), Эриугена использует для ее решения различение предзнания и предопределения Бога: первое относится и к благому и к злому, а второе — только к благому (Х, 1).
Помимо этого, Эриугена приводит и другие традиционно используемые доводы богооправдания, давая им свои формулировки:
— от следствий к причинам: противоположности — добро и зло — не могут иметь одну и ту же причину; если ясно, что причина блага — Бог, то не менее ясно, что он не может быть причиной зла (III, 2);
— от благости творца: тот, кто есть высшее благо, не может быть создателем зла;
— от несубстанциальности зла: зло есть «лишение», «отсутствие», «порча» бытия и блага, т.е. ничто (это неоплатоническое учение Эриугена воспринимает через Августина); следовательно, его создателем не может быть Бог, существующий в высшей степени (Х, 5; XV, 8);
— от относительности зла: одно и то же одному человеку кажется благом, а другому — злом, например, пища — больному и здоровому, вода — умеющему и не умеющему плавать (XVII, 8);
— сравнение Бога с зодчим прекраснейшего храма, где все сделано как следует и все на месте, где царит порядок (XVII, 5).
Но если Бог не предопределяет зло, то источник последнего следует искать в ином, а именно: в свободной воле человека — ход рассуждения, характерный для христианского мыслителя.
Логически вопрос о свободе воли в христианской философии возникает при анализе проблемы происхождения зла в мире при наличии двух аксиом христианского мировоззрения: (1) монизма (Бог — единое и единственное субстанциально-генетическое начало мира) и (2) всеблагости Бога (изначально исключается возможность ответственности Бога за существующее в мире зло). Согласно первому принципу, все существующее в мире должно быть в конечном счете отнесено к Богу как к своей причине и началу; но второе положение явно противоречит этому. Надо искать иной источник зла. И христианство находит его в свободной воле человека.
Однако последняя дана человеку Богом — и мы приходим к прежнему противоречию. Эта неизбежная исходная противоречивость христианского мировоззрения ставила в течение многих столетий проблему свободы воли человека в центр философско-теологических дискуссий.
Эта проблема, в свою очередь, распадается на ряд более частных. Эриугена ставит следующие вопросы:
1. Почему человеческая воля может избирать зло.
2. Почему она действительно избирает зло.
3. Каковы возможности спасения человека и пути к уничтожению зла в мире.
Для разрешения первого вопроса Эриугена прежде всего дает определение природы человека как неразрывного единства существования, воли и мудрости (VIII, 1), что следует из постулата о творении человека Богом по своему образу и подобию. Уточняя это определение, Эриугена далее пишет, что Бог избрал субстанцией человека свободную разумную волю (VIII, 4). «Воля является свободной, разумной, изменчивой» (VIII, 6). Движение свободной воли (motus voluntatis liberae) и есть ее свободный выбор (liberum voluntatis arbitrium). Источником движения человеческой воли может быть либо Бог как высшая воля (и высшее благо — поэтому в данном случае осуществляется выбор блага), либо сама человеческая воля, которая может избрать также и зло. Причина этого — статус свободного выбора в иерархии благ[83]. Являясь «средним» благом, свободный выбор может быть обращен и к добру, и ко злу (VII, 1).
Итак, человеческая воля может плохо использовать дар свободного выбора, потому что свободный выбор является не высшим благом, а только средним. Все эти аргументы Эриугена заимствует из августиновской работы «О свободном выборе» (De libero arbitrio, II, 18-20) для обоснования возможности выбора человеком зла. В сравнении с Августином, у Эриугены отсутствует такой важный для первого аргумент, как сотворенность человека «из ничего».
На вопрос, почему воля действительно избирает зло, Эриугена дает традиционный ответ: зло пришло в мир в результате грехопадения, сущность которого состоит в том, что человек «отвращается от божественного и того, чего следует твердо держаться, и обращается к преходящему и неверному» (VI, 3). Точно так же считает и Августин — порок есть отпадение от Бога как высшего бытия и блага к меньшему бытию (De Civ. Dei. XII, 6). Однако в описании догреховного состояния человека между Эриугеной и Августином имеется существенное различие, вытекающее из неодинакового толкования свободы воли человека.
В отличие от пелагиан, трактовавших свободу просто как способность выбора между добром и злом, Августин различает понятия liberum arbitrium и libertas (libera voluntas), понимая под первым сам факт, процесс выбора (вне зависимости от того, что Бог предзнал, а тем самым и предопределил результат выбора, его мотивы и основания), а под вторым — способность человеческой воли ad bene et recte faciendam (поступать хорошо и правильно) (De lib. arb. II, 1, 4, 5), т.е. подлинную свободу, состоящую в невозможности грешить, что будет достигнуто в Царстве Божием благодаря освобождающей силе благодати[84].
Эриугена же близок к пелагианской точке зрения: свобода воли не будет истинной, если имеется какая-либо причина, принуждающая волю выбирать благо или зло (V, 4). В связи с этим он дает еще одно определение свободного выбора — как выбора либо блага, либо зла (electio vel mali vel boni) (V, 9).
Отличается от августиновской и трактовка Эриугеной состояния человека после грехопадения: Иоанн Скот постоянно подчеркивает, что сущность, субстанция, природа человека не пострадала, не ухудшилась (IV, 6, 7). Здесь прослеживается влияние Оригена[85]: в результате грехопадения человек не теряет главного из того, чем наделил его Бог при творении, — свободы, т.е. способности выбора между добром и злом. Точка зрения Августина иная: грех есть разрушение, порча природы человека, хотя и не полное; после падения человек не имеет истинной свободы, ее восстанавливает только благодать.
Эта позиция Августина вытекает из отмеченного выше различного понимания свободы, во-первых, как общей способности воли к выбору (liberum arbitrium), во-вторых, как невозможности грешить. После грехопадения, свободно (в первом смысле) избрав зло, человеческая воля приобрела привычку к совершению зла, и все последующие случаи ее «свободного» выбора есть на деле «рабство греху». Отсюда вытекает определение возможности спасения: хотя Августин говорит, что благодать необходимое, но не единственное условие спасения, однако gratia est gratuita и она дается человеку Богом независимо от степени его греховности и добродетельности.
Участие воли заключается лишь в изъявлении человеком согласия или несогласия последовать призванию Бога. Но в антипелагианских сочинениях Августина свобода воли человека фактически сводится к нулю тем, что «воля влечется к добру через благодать совершенно непреодолимо и непреклонно» (De correptione et gratia, XII, 38), хотя субъективное переживание человеком своего выбора сохраняется. У Эриугены доминирует идея «воздаяния за свободу», спасения по делам (IV, 5; V, 5; V, 9; VII, 4; VIII, 4).
Результаты второй ступени исследования можно кратко изложить следующим образом: проблема объяснения существования в мире зла порождает необходимость теодицеи, которая реализуется путем разграничения планов божественного предопределения и предзнания. Непосредственной причиной зла объявляется свободная воля человека, но перед Эриугеной сразу же встает проблема соотношения свободной воли человека с благодатью и предопределением.
III. Третий этап исследования связан с установлением некорректности понятия «предзнание зла (греха, наказания)». Доказательство этого тезиса основывается на неоплатоническом учении о несубстанциальности зла, в изложении которого Эриугена следует Августину.
Схема рассуждений Эриугены такова:
1. Зло есть не субстанция, а небытие, ничто.
2. Злом является грех и наказание за грех.
3. Следовательно, с метафизической точки зрения грех и наказание не существуют, так как они суть ничто (X, 3-5; XV, 1).
4. Поэтому они не могут быть ни предопределены, ни даже предузнаны тем, кто существует в высшей степени, т.е. Богом.
Логический переход от пункта 3 к пункту 4 осуществлен на основе одного из исходных для Эриугены принципов, сформулированного во введении (Praefatio) к трактату: «То, что не существует, — не познается Богом и не может быть предзнаемым», ибо «знание принадлежит субстанции Бога, субстанция же его состоит не в ничто, а в нечто». В свою очередь этот принцип основан на воспринятом через Августина античном представлении о познании как уподоблении. Именно поэтому Бог как бытие в подлинном смысле этого слова не может знать несуществующее, т.е. небытие.
В понимании наказания у Эриугены обнаруживается двойственность. С одной стороны, онтологически, оно есть зло, а значит, «ничто», «небытие». Но, с другой стороны, имеется и иной — гносеологический — аспект, в рамках которого употребление понятия «наказание» в позитивном смысле вполне правомерно.
Выражение «предзнание и предопределение грехов и наказаний» — это, может быть, единственный способ для ограниченного человеческого ума выразить неизъяснимые божественные деяния (XV, 1). В соответствии с принципом христианской экзегетики Эриугена утверждает, что порядок (ordo) слов и их значений не один и тот же[86]. Поэтому наказание, согласно Эриугене, заключается в раскрытии для заблуждающегося сознания действительного значения зла, т.е. его несубстанциальности, небытийственности и, следовательно, в осознании невозможности стремиться ко злу и делать его (так как зло с объективной метафизической точки зрения есть ничто и «существует» только в качестве призрака в сознании людей, стремящихся к нему).
Наказанные будут иметь в памяти представление о счастье, самого же счастья иметь не будут (XVI, 1). Блаженство, счастье заключается в познании истины, значит, наказание как отсутствие блаженного счастья (beatae felicitatis absentia) есть незнание истины (XVII, 9). В этом рассуждении проявляется сочетание античной идеи интеллектуального незаинтересованного созерцания как высшего типа жизнедеятельности с этической ориентацией христианства на проблемы вины, греха, наказания.
IV. Рассмотренный ранее (вторая ступень исследования) тезис о различии божественного предзнания и предопределения для Эриугены оказывается несостоятельным с точки зрения единства и простоты субстанции Бога. Они различны «не от природы, но от употребления оборотов речи» (XVII, 2). На самом же деле, ex veritate, предзнание Бога (в отличие от знания человеком будущего) одновременно является и предопределением. Эта мысль встречается и у Августина[87], но для него она не столь характерна (хотя имплицитно содержится в идее христианского монотеизма), в отличие от Эриугены, у которого уже в этой ранней работе очень заметна тенденция абсолютного монизма, проявляющаяся прежде всего в утверждении единства и простоты божественной субстанции. В качестве еще одного довода в пользу утверждения о тождестве предзнания и предопределения Эриугена приводит тот факт, что в греческом языке они выражены одним и тем же словом — προόρασις (XVIII, 2).
Третий тезис гласит, что предзнание и предопределение зла невозможно.
Теперь же Эриугена делает вывод (четвертый тезис) о тождестве для Бога и в Боге предзнания и предопределения и о приложимости их только к благому, т.е. к тому, что существует от Бога.
Этим выводом значимость второго тезиса полностью не снимается (согласно Эриугене, мы для удобства считаем, что предопределение относится только к благому, а предзнание — и к благому, и к злому, — XVIII, 4), а показывается его ограниченность с более глубокой точки зрения.
V. Пятый, подрывающий традиционные христианские представления тезис о том, что поистине не существует ни божественное предопределение, ни божественное предзнание, доказывается Эриугеной на основе подробно развитого Августином и Боэцием учения о соотношении вечности и времени.
Для Бога нет ни прошлого, ни будущего, так как для него вообще нет времени, он существует в вечности. Поэтому Бог не может во времени предшествовать своему творению, а значит, не может пред-знать и пред-определять его. Бог предшествует своему творению в вечности, т.е. логически (IX, 6).
Но и в Священном Писании, и в творениях Отцов Церкви очень часто употребляются понятия «предопределение» и «предзнание» Богом добра и зла. Эриугене важно объяснить этот факт, показать, что его идеи находятся в полном соответствии со священными текстами и являются их наиболее адекватным выражением.
В то же время для Эриугены характерно постоянное подчеркивание субстанциального единства Бога и тождества его со всеми так называемыми акциденциями. В связи с этими двумя моментами возникает проблема, которой Эриугена в своем сочинении уделил очень много внимания: каким образом человек пытается познать Бога, выразить его невыразимую сущность.
Идеи непостижимости сущности Бога и невыразимости ее в языке развивались преимущественно греческими апологетами и восточными Отцами Церкви. Не останавливаясь на причинах этого, следует только отметить, что своей кульминации указанная тенденция достигает в учении Псевдо-Дионисия Ареопагита об апофатическом и катафатическом способах богопознания и у его последователя Максима Исповедника (580-662). Конечно, ни о каком прямом влиянии подобных воззрений на Эриугену в тот период, когда он писал «De praedestinatione Divina» (в 851 г.)[88], говорить не приходится (за исключением разве только идей Оригена, хорошо известного на Западе).
Однако тенденция отрицательной теологии существовала и в латинской христианской философии, хотя и не получила в ней значительного развития. Так, один из первых латинских апологетов Минуций Феликс (конец II — начало III в.) писал: «Во всем Своем величии [Бог. — Е. А.] известен только Самому Себе; наше же сердце слишком тесно для такого познания, и потому мы тогда только Его оцениваем достойно, когда называем Его неоцененным. Я скажу, как я думаю: кто мнит познать величие Божие, тот умаляет Его, а кто не хочет умалять Его, тот не знает Его. И не ищи другого имени для Бога: Бог — Его имя»[89]. Что же касается Августина, то, высказывая иногда мысль: «Deus melius scitur nesciendo» (Бог лучше познается через незнание) (De ordine, II, 16), он не доводит понятие трансцендентности Бога до отрицания применимости к нему всех предикатов, заимствованных из конечного мира.
У Боэция (сочинения которого были хорошо известны в Средние века) этот вопрос обсуждается очень подробно в работе «О Троице» (De Trinitate). Бог един и не содержит в себе никакой множественности. В силу этого ни одна из категорий Аристотеля не может быть приписана Богу в том же самом смысле, как и другим вещам. Из всех этих категорий к Богу приложимы только две, да и то паронимно, в несобственном смысле, а именно: субстанция, но не в традиционном аристотелевском смысле (субъект, носитель качеств), а как некое пребывающее постоянное бытие, в котором свойства тождественны ему самому; и отношение, так как относительные предикаты не изменяют субстанцию, к которой они прилагаются. Исходя из этого Боэций решает проблему троичности: три божественные ипостаси — это лишь отношения, не привносящие в единую субстанцию Бога ничего нового, никакой множественности.
Пожалуй, именно он мог оказать на Эриугену непосредственное влияние в учении о богопознании, особенно:
1) в связи с проблемой паронимов,
2) своим пониманием категории субстанции,
3) различением высказываний substantialiter (субстанциально) и relative (относительно).
В целом же развиваемая Эриугеной концепция вполне оригинальна, насколько об оригинальности можно говорить применительно к средневековому типу философствования, главным методом которого является поиск возможно более адекватного истолкования священного текста, скрывающего единственную, абсолютную, окончательную истину, данную Богом через откровение.
Все слова, которые мы используем для обозначения Бога, Эриугена делит на две группы:
1. Те предикаты, которые «как будто действительно приложимы к нему в собственном смысле (propria)»: глаголы — sum (я есть), es (ты есть), est (он есть), esse (быть); имена essentia, veritas, virtus, sapientia, scientia, destinatio (сущность, истина, добродетель, мудрость, наука, назначение) и другие этого рода. Их можно относить к Богу, «потому что они обозначают все, что есть первое и лучшее в нашей природе», а это лучшее в нас, несомненно, от Бога (IX, 2). Но при этом следует помнить, что эти предикаты, будучи приложены к Богу, приобретают качественно иной — высший — смысл, чем когда их употребляют по отношению к человеку и вообще всему сотворенному.
2. Те предикаты, которые употребляются для обозначения Бога и его деяний, исходя из трех оснований: a similitudine (по сходству), a contrario (по противоположности), a differentia (по различию).
Примеры первого основания (a similitudine) из Священного Писания: «Кому открылась мышца Господня» (Исаия 53, 1); «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их» (Пс. 33, 16).
Примеры третьего основания (a differentia): гнев, ужас, негодование, страх, печаль и другие, которые, несомненно, не имеют никакого сходства с божественной природой и употребляются по способу катахрезы, т.е. в несобственном, неточном, неправильном смысле.
Относительно второго основания (a contrario) сказано, что «как из всех доказательств наиболее сильным является то, что берется от противного, так и из всех знаков слов наиболее подходящим будет тот, который полагается из того же самого отношения противоположности» (IX, 3). Пример его в Писании: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» (I Кор. 1, 19). По мнению Эриугены, смысл этого высказывания прямо противоположный, и если бы Бог говорил открыто, то сказал бы: «Погублю неразумие неразумных и безрассудство безрассудных отвергну» (IX, 3).
В этом очень показательном рассуждении Эриугены проявляется характерная черта средневекового мышления: стремление повсюду — будь то текст, архитектурное сооружение, произведение искусства, наконец, природа, искать сокрытое, зашифрованное, не лежащее на поверхности, а требующее глубокого осмысления, расшифровки, истолкования. Хотя на деле это, на первый взгляд, крайне иррационалистическое высказывание несет совершенно иную, конкретно-историческую нагрузку: под «мудростью» и «разумом» автор послания, живший в I в. н.э., имел в виду отвергаемую формирующимся христианством языческую эллинистическую культуру, а «мудрецы» и «разумные» — это ее приверженцы, преследующие христиан, посылающие их на муки и гибель.
Исходя именно из этой установки на необходимость выявления скрытого смысла, Эриугена считает, что понятия «предопределение» и «предзнание» по отношению к Богу употребляются в несобственном смысле (abusive), метафорически (translative). Ошибки происходят вследствие неправильного истолкования: эти слова берутся в собственном смысле и a similitudine (по сходству) с сотворенным временным миром.
Эриугена находит две причины подобного неверного истолкования.
1. Хотя вечное и временное составляют оппозицию, но все же некоторое подобие вечности присуще временному, так как временное происходит от вечности (вечный Бог творит временный мир).
2. О Боге, т.е. о вечности, берется рассуждать часть временного, а именно человек, неизбежно приписывая Богу не свойственные ему черты. Это рассуждение показывает, что Эриугена находится в русле гносеологической традиции неоплатонизма, согласно которой «познающее познает познаваемое в соответствии со способом бытия познающего».
Показав причины ошибочных мнений, Эриугена делает вывод, что, так как вечное и временное находятся в отношении противоположности, слова «предопределение» и «предзнание» Бога следует мыслить a contrario (в противоположность) с сотворенными вещами, чтобы не впасть в ересь, которая и произошла из-за неправильного их использования (Х, 2). В конечном счете «различные слова, которыми разумная душа стремится назвать Бога, означают одно и то же — невыразимую сущность творца, хотя каждое из имен говорится relative (относительно)» (III, 1).
Напрашивается вывод, что уже в этом своем раннем сочинении, еще до знакомства с философией восточных отцов, Эриугена различает положительный и отрицательный пути богопознания и считает второй наиболее правильным.
Вероятно, Эриугена понимал, что предложенное им толкование божественного предзнания и предопределения не укладывается в традиционные рамки. Недаром он пытается защищаться от возможных обвинений в отрицании предзнания и предопределения: «Разве опровергает предзнание Бога или презирает его предопределение тот, кто утверждает, что они были сказаны применительно к Богу в переносном смысле. Или как будто противно правильной вере, если кто-нибудь скажет, что предзнание и предопределение в собственном смысле существует применительно к тем, которые в порядке времен предшествуют тому, что они предзнали и предсказали, в несобственном же смысле о предзнании и предопределении говорят, что они имеют место в отношении того, для кого нет никакого будущего, потому что он ни в каком времени, а в своей вечности предшествует всему, что суть от него?» (IX, 1).
Эта точка зрения фактически вела к максимальному разведению божественного и человеческого бытия, связанных между собой лишь логически. Но крайности сходятся, — и максимальное разведение оборачивается чуть ли не тождеством, бытие человеческого мира оказывается бытием в Боге, выступающем как закон этого мира. «Божественное предопределение есть вечный закон всех природ» (XVIII, 10), закон, определяющий границы для каждого вида тварей сообразно их природе.
Итак, божественное предопределение состоит в том, что Бог, дав человеку определенную природу, ограничил тем самым пределы его свободы. Человек не может преступить границ своей природы, но внутри этих пределов он обладает возможностью свободного выбора.
Таким образом, для Эриугены антиномия природы и благодати, а также свободы воли и предопределения фактически оказывается снятой: все, что присуще человеку, присуще ему naturaliter (по природе) и substantialiter (субстанциально) и совершенно неотъемлемо. Бог даром своей благодати дал человеку именно такую природу, наделенную свободной волей, реализуемой в свободном выборе. Поэтому человек сам грешит, несет за это ответственность и сам же может спастись. Абсолютный монизм в трактовке Эриугеной божественного существа приводит к тому, что занимающая такое важное место в концепции Августина благодать, как особый дар милостивого Бога, оказывается фактически излишней (хотя прямо Эриугена об этом, конечно, не говорит).
Поэтому для Эриугены не будет противоречием заявить: существует и свободный выбор человека, и божественная благодать (IV, 3). Первое выводится из постулата грядущего мирового суда, а второе — из основополагающей идеи спасения согрешившего человечества. Но характеристики Бога как судьи и спасителя являются несовершенным человеческим обозначением единой божественной субстанции, поэтому никакого противоречия не возникает, и дискуссия, начатая Готшальком, оказывается спором о словах, т.е. о правильном понимании, интерпретации священных текстов и прежде всего Августина, слова которого Готшальк, по мнению Эриугены, извратил.
Как было указано, Эриугена написал «De praedestinatione Divina» по официальному заказу архиепископа Гинкмара Реймсского для опровержения ереси Готшалька и философской разработки вопроса о соотношении свободы воли человека и предопределения. Однако сочинение Эриугены резко осложнило ситуацию. Философ предложил такое решение, которое для франкских богословов оказалось еще более опасной ересью, чем учение Готшалька.
Это породило новый этап спора, связанный теперь уже с опровержением взглядов Эриугены. Венилон, архиепископ Санский (?-865), нашел у Эриугены «яд пелагианского неверия», «безумие Оригена» и поручил епископу Труа Пруденцию опровергнуть идеи Эриугены. Пруденций написал огромный трактат под названием «О предопределении против Иоанна Скота по прозвищу Эриугена, или Книга Иоанна Скота, исправленная Пруденцием, а также Отцами — Григорием, Иеронимом, Фульгенцием и Августином» (De praedestinatione contra Joannem Scotum cognomento Erigenam seu Liber Joannis Scoti correctus a Prudentio, sive a caeteris Patribus, videlicet, a Gregorio, Hieronimo, Fulgentio atque Augustino)[90]. Работа имеет следующую структуру: названия глав повторяют заголовки разделов сочинения Эриугены; после краткого вступления Пруденций дает Эриугенову цитату, затем в качестве опровержения или исправления приводится одна или несколько длинных цитат из авторитетных текстов. Называя Эриугену последователем лжеучений Оригена и Пелагия, вторым Юлианом Экланским, Пруденций сводит все его «заблуждения» к 77 пунктам и каждый опровергает ссылками на авторитетные источники. Критикуя Эриугену, Пруденций, по сути, защищает теорию двойного предопределения — в том несколько ограниченном смысле, что злые определены к наказанию, хотя не определены ко греху, и поэтому Христос был распят не за всех, а только за избранных (в подтверждение этого он ссылается на Евангелие от Матфея — Мф 20, 28).
Еще более резким характером отличается сочинение диакона Флора «Против нелепостей и ошибок некоего пустейшего человека, по имени Иоанн, относительно божественного предопределения и предзнания и истинного выбора человека» (Adversus cujusdam vanissimi hominis, qui cognominatur Ioannes, ineptias et errores de praedestinatione et praescientia divina et de vero hominis arbitrio)[91].
В результате сочинение Эриугены «О божественном предопределении» было осуждено на церковных соборах в Валенсе (855 г.), где его рассуждения были охарактеризованы как выводы из дерзновенных силлогизмов, содержащие скорее тезисы дьявола, чем истины веры, и в Ланграх (859 г.). Папа Николай I согласился с этими решениями[92]. Однако Эриугена, несмотря на неоднократные осуждения, не потерял расположения короля Карла Лысого и не отвечал на критику. И в более позднем фундаментальном труде «О разделении природы» философ изложил свое понимание проблемы свободы воли человека практически без изменений по сравнению с позицией, представленной в сочинении «О божественном предопределении».
[35] Вся эта проблематика подробнейшим образом рассмотрена в ставшей классической сразу же после выхода в свет работе Геннадия Георгиевича Майорова: Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М.: Мысль, 1979. С. 343-345.
[36] Обсуждение вопроса о применимости термина «Возрождение» к культурным явлениям Каролингской эпохи (на эту тему существует обширнейшая литература, в которой выражены противоположные точки зрения) не входит в задачу настоящей статьи. Я отношусь к сторонникам правомерности термина «Каролингское Возрождение», понимаемого как резкий культурный подъем после относительно долгого упадка, когда культура в поисках образцов обращается «не к непосредственно предшествующей эпохе, а через ее голову к более отдаленным» (Гаспаров М.Л. Каролингское Возрождение (VIII-IX века) // Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. М.: Наука, 1970. С. 223).
[37] О жизни Эриугены известно немного. Он родился в Ирландии, учился в ирландском монастыре, где изучил греческий язык. Спасаясь от норманнских набегов, Эриугена, как и многие его соотечественники, покинул родину, и около 840 г. мы уже находим его занимающим довольно видное место при дворе короля Карла Лысого, который высоко ценил ирландца за необычную по тому времени ученость.
[38] Alcuin. De dialectica // Patrologiae cursus completus / J.-P. Migne (ed.). Series Latina (далее — PL). T. 101. Col. 949-976.
[39] См.: Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. С. 110. По мнению автора, с этой работы Алкуина можно начинать историю схоластической философии на Западе. Другие исследователи считают сочинение «De dialectica» первым средневековым трактатом по логике (см.: Kneal W., Kneal M. The Development of Logic. Oxf., 1962. P. 198).
[40] Alcuin. Commentaria in sancti Joannis Evangelium // PL. T. 100. Col. 744.
[41] См.: Manitius M. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. 1. Von Justinian bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts. Munich: Beck, 1911.
[42] Сервату Лупу принадлежит необычная для его современников мысль: «Мудрость, по-моему, заслуживает достижения уже ради нее самой» (цит. по: Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. М., 1970. С. 235).
[43] Это учение, возникшее еще в III в., в дальнейшем периодически находило активных приверженцев, стремившихся осмыслить проблему двух природ в одной личности Христа. См., в частности: Корсунский А.Р. Религиозный протест в эпоху раннего средневековья в Западной Европе // Средние века. Вып. 44. М.: Наука, 1981. С. 58-60.
[44] См.: Майоров Г.Г. Указ. соч. С. 9-10.
[45] См., например: Гарнак А. История догматов // Общая история европейской культуры / под ред. И.М. Гревса. СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1911. Т. VI.
[46] Эта идея — Spiritus Sanctus a Patre et Filio — впервые встречается в Symbolum Quicumque — Символе веры, который приписывается Афанасию Александрийскому (ок. 298 — 373). Однако большинство историков относят время его составления к началу V в. и считают, что он был написан на латыни, а не на греческом. Названный символ нацелен на опровержение многочисленных ересей, прежде всего арианства и несторианства. В VI в. испанские теологи в борьбе с вестготами-арианами использовали эту формулировку; в результате после перехода вестготского короля Рекареда I и его подданных из арианства в католичество (587 г.) III Толедский поместный Собор (589 г.) зафиксировал filioque в своих постановлениях. Из Испании это истолкование распространяется по монастырям Западной Европы.
[47] PL. T. 105. Col. 239-276.
[48] В течение IX в. filioque было принято церквами Германии и Лотарингии, а также многими церквами Франции и в начале XI в. включено в Символ веры в Риме папой Бенедиктом VIII.
[49] Изложение этого вопроса в настоящей статье базируется на нескольких работах, среди которых следует выделить: Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т. IV. История церкви в период Вселенских соборов. Ч. 3. История богословской мысли. Петроград: Третья Государственная типография, 1918. С. 581-586; Арсеньев И. От Карла Великого до реформации (историческое исследование важнейших реформационных движений в западной церкви в течение восьми столетий). М.: Печатня С.П. Яковлева, 1913. С. 9-26; The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1967. P. 565-572 (Th. 36. Development of Thought in the Carolingian Empire. A Frankish Criticism of Bysantin Theories of Sacred Art).
[50] PL. T. 98. Col. 941-1248.
[51] Так называемые Ареопагитики (Corpus Areopagiticum) — богословские произведения на греческом языке, приписываемые Дионисию Ареопагиту (сер. I в.), написаны, как полагают исследователи, на рубеже V и VI вв. См.:[Псевдо-]Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник [и другие]. Толкования / пер. и предисл. Г. М. Прохорова. (Серия «Византийская библиотека». Раздел «Источники»). СПб.: Алетейя, 2002.
[52] Конечно, дело было не в интеллектуальной неспособности, а в иной культурной традиции — на Востоке не было «темных веков», из которых только-только с большим трудом выбиралась западноевропейская мысль, и в иной социальной практике — на Западе отсутствовала сильная, подчиняющая себе и общество, и церковь императорская власть.
[53] Цит. по: Арсеньев И. Указ. соч. С. 12-13.
[54] Epistola Adriani Papae ad beatum Carolum Regem de imaginibus // PL. T. 98. Col. 1247-1292.
[55] PL. T. 104. Col. 199-228.
[56] См.: Manitius M. Op. cit. S. 390-396; Корсунский А. Р Указ. соч. С. 65-66.
[57] PL. T. 105. Col. 465-530.
[58] PL. T. 106. Col. 305-388.
[59] Опубликовано в: Epistolae Karolini aevi. T. V. // MGH / Hrsg. E. Caspar, G. Laehr u.a. 1912-1928. Nachdruck 1993. S. 146-149. См.: Manitius M. Op. cit. S. 639-646; Müller B. Persönlichkeit Karl des Großen nach Einhards Vita Karoli Magni. München: GRIN Verlag, 2009. S. 252.
[60] Опубликовано в: Hauréau J.-B. Histoire de la philosophie scolastique. V. 1. P.: Durand D.G. Pedone-Lauriel, 1872. P. 134-137.
[61] PL. T. 105. Col. 751-757. См.: Фридугис. О субстанции ничто и тьмы / пер. В.В. Петрова // Историко-философский ежегодник'96. М.: Наука, 1997.
[62] PL. T. 104. Col. 159-174.
[63] См.: The Cambridge History of Later Greek... P. 573-574.
[64] См.: Manitius M. Op. cit. S. 290, 414-415, 417.
[65] Augustinus Aurelius. De quantitate animae. XXXII, 69 (PL. T. 32. Col. 1073).
[66] Ratramnus Corbeiensis. De anima / ed by A. Wilmart // Revue Benedictine. 1931. T. 43.
[67] Годы епископства.
[68] Ratramnus Corbeiensis. Liber de anima ad Odonem Bellovacensem / ed. D.C. Lambot. Namur-Lille: Godenne et Giard, 1952 (Analecta mediaevalia Namurcensia 2).
[69] Оба написали трактаты с одинаковым названием — «О теле и крови Господа» (De corpore et sanguine Domini). Сочинение Пасхазия см.: PL. T. 120. Col. 1255-1350; работу Ратрамна см.: PL. T. 121. Col. 125-170). Об этом см.: Гарнак А. Указ. соч. С. 398-400; Taylor H. O. The Medieval Mind. Cambridge Mass.: Harvard Univ. Press, 1959. T. 1. P. 225; Корсунский А.Р. Указ. соч. С. 66.
[70] Взгляды Готшалька известны в основном по сочинениям его противников, которые, стараясь подчеркнуть отличие его воззрений от учения Августина, скорее всего, усиливали выдвигаемое Готшальком положение о предопределении ко злу. Сохранившиеся отрывки из сочинений Готшалька см.: PL. T. 121 (Confessio. Col. 347-349; Confessio prolixior. Col. 349-366; Fragmenta omnia, quae extant libelli per Gotteschalcum Rabano archiepiscopo Moguntino in placito Moguntiae oblati, anno 848 (ex Hincmaro Rhemensi in opere de Praedestinatione). Col. 365-368; Epistola Gotteschalci ad Ratramnum. Col. 367-372).
[71] «Дело Готшалька, питавшее церковную хронику в течение двадцати лет.., выявило зависимость между политикой, обществом и Церковью. Если на самом деле подданные начнут верить, что человек не может ничего сделать для своего спасения, что его дела и поступки не имеют никакого значения, — то как же после всего этого требовать от них соблюдения христианских моральных законов — этого фундамента стабильного и устойчивого общества, угодного Богу и защищаемого соединенными усилиями королевской и церковной власти? В итоге борьба с грехом, единственно праведная борьба, в учении о предопределении сводится на нет. И даже если проповедь Готшалька в теологическом плане была приемлемой, то в моральном и общественном отношении она становилась пагубной, а потому и еретической» (Тейс Л. История Франции. Т. 2. Наследие Каролингов. IX-X века. М.: Скарабей, 1993. С. 90-91).
[72] PL. T. 112. Col. 1532.
[73] De Praedestinatione Dei // PL. T. 121. Col. 12-80.
[74] Liber de tribus quaestionibus // PL. T. 119. Col. 619-647 (первые две части посвящены вопросу о предопределении — «De libero arbitrio» и «De praedestinatione bonorum et malorum», третья — «De sanguinis Domini taxatione» — уже упоминавшемуся спору об евхаристии).
[75] Sermo de praedestinatione // PL. T. 119. Col. 95-101.
[76] Об этом см.: Майоров Г.Г. Указ. соч. С. 9-13.
[77] Среди множества исследований философских взглядов Августина, помимо уже неоднократно упоминавшегося труда Г.Г. Майорова, назову две работы отечественных ученых по рассматриваемой проблеме: Гаджикурбанов А. Проблема свободы воли у Августина // История философии и современность. Вып. 2. М.: Наука, 1977; Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М.: Греколатинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1999.
[78] Выходец из Британии, Пелагий прибыл в Рим около 380 г. В среде римской знати и высшего духовенства он был известен своей безукоризненной нравственностью, которой не отрицали даже его самые непримиримые противники. После разграбления Рима вестготами Алариха в 408-410 гг. Пелагий, как и многие римляне, бежал в Северную Африку, а впоследствии в Иерусалим. В Палестине Пелагий написал «Послание к Димитриаде» — единственное сочинение, сохранившееся полностью, в то время как большая часть трудов Пелагия дошла в отрывках и в пересказах его оппонентов, главным образом Августина. В 418 г. учение Пелагия и его последователей было осуждено как еретическое. В 431 г. Эфесский собор подтвердил это осуждение. (См.: Пелагий. Послание к Димитриаде // Эразм Роттердамский. Философские сочинения. Приложения. М.: Наука, 1986. С. 594-635, 697-699.)
[79] См.: Трубецкой Е. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. М.: Мысль, 1982. Ч. 1. С. 171.
[80] Майоров Г.Г. Указ. соч. С. 303.
[81] Сочинение Эриугены «De praedestinatione Divina» довольно трудно для изучения. Значительное количество противоречащих друг другу высказываний, частое несоответствие названий глав их содержанию, длинные цитаты из работ Августина, подчас служащие для доказательства прямо противоположных положений Эриугены, — все это осложняет анализ. Поэтому представляется целесообразным реконструировать логическую структуру сочинения. Выявление возможной логики исследования позволяет в одних случаях снять отмеченную противоречивость, в других — показать ее причины и, по крайней мере, найти в сочинении определенный порядок.
[82] Далее в тексте римскими цифрами обозначена глава, а арабскими — раздел сочинения Эриугены «De praedestinatione Divina» по изданию: PL. T. 122. Col. 347-440.
[83] Существует иерархия благ, данных человеку от Бога. Высшими благами (мудрость, умеренность, мужество, справедливость) никто не может пользоваться плохо, так как, по определению, это добродетели, благодаря которым живут правильно. Меньшими, телесными благами, без которых можно жить правильно, большинство людей пользуется для выполнения низменных желаний, хотя их можно использовать благочестиво (VII, 1). Средние блага — это силы души, без которых невозможно жить правильно, но их онтологический статус таков, что допускает и превратное использование.
[84] В сочинениях Августина довольно часто наблюдается смешение этих двух понятий. На этот факт обращает внимание и Эриугена, когда, приводя цитату из «О свободном выборе» (II, 1), он подчеркивает, что Августин пользуется выражением (modus locutionis) «libera voluntas» (свободная воля) там, где сам Эриугена употребляет понятие «motus voluntatis liberae» (движение свободной воли) или «arbitrium» (выбор) (VIII, 8).
[85] О влиянии Оригена см.: Петров В.В. Ориген и его влияние на эсхатологию Иоанна Скота // Философия природы в античности и в средние века. Ч. III. М.: ИФРАН, 2002.
[86] «Non eodem ordine verba proferuntur, quo et sensus» (XV, 6). Пример подобного иносказания Эриугена находит в поэзии; он пишет, что выражение «дать кораблям южные ветры» имеет значение «дать корабли южным ветрам» (Cujus exemplum poeta posuit: “dare classibus austros”, quod e diverso accipitur, dare classes austris. XV, 6).
[87] Praedestinatio et praescitio item» (De dono perseverantiae, XVII, 47).
[88] Позднее, в 860-х годах, Эриугена не только прочитает, но и переведет на латинский язык с греческого произведения, называемые Ареопагитиками, которые были привезены в аббатство Сен-Дени в IX в., а также несколько сочинений Максима Исповедника и Григория Нисского (ок. 335 — после 394). Результатом занятий греческой патристикой стало создание Эриугеной грандиозного философского синтеза западно- и восточнохристианской мысли — в труде «О природах» (περί φυσέων), который в XII в. получил название «О разделении природы» (De divisione naturae) и был впоследствии осужден церковью как еретический.
[89] Минуций Феликс. Октавий. 18 (цит. по: Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель: Изд-во «Жизнь с Богом», 1988. С. 563).
[90] PL. T. 115. Col. 1009-1366.
[91] PL. T. 119. Col. 101-250.
[92] Спор IX в. о предопределении формально был закончен на соборе в Туси (860 г.) принятием решения о предопределении в самом примирительном смысле. Его автором был Гинкмар, епископ Реймсский (De praedestinatione Dei et libero arbitrio posterior dissertatio. PL. T. 125. Col. 65-474). Несмотря на уступки своим противникам по ряду вопросов, за которые его обвиняли в полупелагианстве, он отстоял следующие тезисы, вошедшие в решение собора: (1) Бог хочет, чтобы все спаслись; (2) свобода воли остается и после грехопадения, но воля должна быть освобождена божественной благодатью; (3) Бог по своему милосердию некоторых из общей массы погибели предопределяет к вечной жизни; (4) Христос умер за всех.
3. Анализ способов аргументации участников спора IX века о предопределении
В споре IX в. о соотношении предопределения и свободы воли человека выявились различные типы аргументации его участников. Их изучение и сопоставление позволяет вычленить как специфику рассуждения, так и общие черты, характерные для философского мышления эпохи.
Учение Готшалька о предопределении является логически последовательным. Но оно с необходимостью содержит отрицание свободы воли человека: следуя этому учению, человек должен осознавать себя несвободным, поскольку он не может ничего изменить в своей судьбе — все предопределено.
Ученые, к которым обратились высшие церковные иерархи и идеологи Рабан Мавр и Гинкмар Реймсский (уже упоминавшиеся Пруденций, Флор, Луп, Ратрамн), не только не дали теоретического обоснования осуждения Готшалька, но и с разными оговорками и нюансами поддержали идею двойного предопределения. Однако Рабан и Гинкмар не могли не объявить данную Готшальком интерпретацию Августинова учения о предопределении еретической из-за ее негативных последствий для морального самосознания верующих. Этому решению наука (в лице четырех вышеназванных мыслителей) не смогла дать необходимого теоретического оправдания, между тем без такого логического обоснования теперь было невозможно претендовать на всеобщую обязательность церковного учения для верующих — это явилось следствием повышения общего образовательного уровня в результате реформ, проведенных в правление Карла Великого.
Требовалось философское теоретическое опровержение готшальковской интерпретации учения Августина о предопределении человеческих поступков Богом, опровержение, которое смогло бы преодолеть логическую обоснованность и убедительность построений Готшалька. Именно в этой ситуации епископ Гинкмар обратился к Эриугене.
Для анализа сочинения Эриугены о предопределении необходимо обратить внимание на тот результат, к которому его привело составление глосс на Марциана Капеллу[93]. Вследствие того что здесь Эриугена широко использовал логику, понимая ее как формальную основу всякого исследования, он пришел к новому для каролингской образованности выводу: понятийное высказывание может считаться истинным, только когда доказано, что оно отвечает формально-логическим требованиям истинности. Этим Эриугена открыл для складывающейся схоластики возможность всесторонне использовать логику для обоснования религиозных истин. Он «...является первым средневековым писателем, использующим силлогистическую форму рассуждения, но это было задолго до того, как стало общепринятым. Для большинства схолархов логика была не более чем курьезом, обнаруженным в литературе, оставшейся от христианского Рима»[94].
Однако перед Эриугеной не стояла задача при помощи логических средств сделать заключение об истинности церковного учения о предопределении человека Богом. Он должен был философски обосновать содержание учения, которое уже было дано ему Гинкмаром. Поэтому неудивительно, что его выводы построены иначе, чем все другие сочинения, написанные по обсуждаемому вопросу. Эриугена начинает не с содержательного рассмотрения существа проблемы, а с пространного рассуждения о методах (I, 1-4).
До этого времени в системе каролингской образованности господствовал метод доказательства от авторитета, который заключался в следующем: по каждому дискутируемому вопросу собирали как можно больше соответствующих цитат из Священного Писания и сочинений Отцов Церкви, приводили их в содержательное соответствие и считали это правильным пониманием обсуждаемой истины веры. Таким образом, критерием истинности доказательства от авторитета было содержательное соответствие определенной интерпретации авторитетным текстам. В вопросе о предопределении и свободе в качестве авторитетных текстов привлекались прежде всего Послания к Римлянам апостола Павла и сочинения Августина.
В своем самом полном труде «Пространное исповедание» (Confessio prolixior)[95] Готшальк впервые разработал понятие «gemina preadestinatio» (двойное предопределение). Вслед за определением этого понятия у Готшалька шло доказательство от авторитета: он привел цитаты из сочинений Отцов Церкви как доказательство правильности своего рассуждения. В заключение он изложил свои убеждения в форме длинной молитвы.
В основе метода Эриугены лежит сомнение в состоятельности доказательства исключительно методом от авторитета. Если изменить хотя бы немного тексты, на которых базируется решение проблемы соотношения предопределения и человеческой свободы, — вместо поздних антипелагианских сочинений Августина взять его же антиманихейские, — то получается совершенно иной результат. Для Эриугены обоснование истины какого-либо положения веры будет достигнуто только тогда, когда показано, что содержание этого положения имеет общеобязательную, а не относительную значимость. Поэтому требование обосновать истину влечет за собой необходимость обращения к логике: «Нам с необходимостью предписано использовать правила этой науки (спора)» (I, 2).
То, что Эриугена рассматривал свое участие в споре как выступление именно ученого, показывает сопроводительное письмо к Гинкмару и Пардулу, которым он предваряет свое сочинение. Эриугена пишет здесь, что, после того как иерархи церкви силой благородства своего красноречия опровергли ложные учения, его задача состоит теперь в том, чтобы это опровержение подтвердить с помощью строгого логического рассуждения — ratiotinatio. Искусство красноречия может служить только для того, чтобы кого-то переубедить (I, 3), однако оно не годится ни для обоснования истины в качестве именно истины, ни для разоблачения неистины как неистины. Для этого требуется философия.
Цитируя слова Августина, что истинная философия есть истинная религия и наоборот (I, 1-2), Эриугена дает ей следующее определение: «Философия — истинная религия, при помощи которой сущность и главная причина всех вещей — Бог — со смирением почитается и разумно исследуется» (Ibid.). Дефиниция вполне в духе схоластики, если понимать последнюю как тип философствования, направленный на рациональное обоснование священных текстов, содержащих абсолютную и окончательную истину, которая, однако, открывается лишь ищущим ее.
Употребляет Эриугена и термин «диалектика», определяя его следующим образом: «Она обучает незнающих ее, различает истину и ложь, разделяет запутанное, соединяет разделенное, во всем исследует истину» (VII, 1). Получается, что философия и диалектика совпадают как по цели, так и по методам исследования. Кроме того, Эриугена называет философию (диалектику) наукой спора — disputandi disciplina (I, 2), продолжая этим античную традицию.
Было бы неправильным считать, что Эриугена занимает антириторическую позицию. Его высказывания относительно «искусства красноречия» инспирированы, скорее всего, «Компендиумом семи свободных искусств» Марциана Капеллы, в котором проводится идея, что красноречие (Меркурий) и научное стремление к знанию (Филология) должны быть взаимосвязаны. Эриугена разграничивает задачи этих двух «искусств»: провозглашение христианской истины является делом риторики, в то время как теоретическое обоснование правильности провозглашенной истины переходит в компетенцию диалектики (логики).
Здесь выдвигается требование, новое для каролингской образованности: Эриугена утверждает, что наука логики, основываясь только на себе, в состоянии доказать истину христианского учения. Отсюда следует требование передать решение этой задачи в компетенцию логики. Фактически впервые в эпоху Средневековья здесь высказывается идея о необходимости отнесения к компетенции науки тех задач, которые может решить только она.
Отношения между философией и религией, согласно Эриугене, определяются прежде всего тем, что обе дисциплины своим содержанием имеют учение об универсуме, мировой целостности. Однако философия возможна только на основе мировоззрения, признаваемого истинным. Это означает, что, несмотря на ее автономию в сфере формального рассуждения, философия не может выработать из самой себя правильное миропонимание. Ее задача состоит в том, чтобы, уже имея в качестве своей основы верное миропонимание, выработать адекватную ему строгую понятийную форму.
Так, христианство — это истинная религия. Благодаря своему происхождению из божественного откровения она обладает не каким-либо, а истинным миропониманием и поэтому является для человека источником спасения[96]. Таким образом, философия будет истинной, только если она содержательно основана на христианской религии.
Кроме того, для отношений между философией и религией характерно различие в трактовке истины. С точки зрения религии, истина — это то, что определяет все понимание действительности верующим человеком и имеет прежде всего практическое значение (так, результатом проповедей Готшалька стало осознание его слушателями своей неспособности заслужить вечную жизнь после смерти, что имело чисто практические последствия для их повседневной жизни).
Напротив, ученый «объясняет правила (régula) истинной религии». «Regula» понимается как совокупность правил, законов, методов логики, посредством которых чисто формальными средствами устанавливается истинность или ложность умозаключения, независимо от его содержания. Выступая в качестве ученого, Эриугена ставит своей целью придать христианскому учению (в данном случае — его отдельному положению) форму систематически организованной и внутренне непротиворечивой, понятийно выраженной всеобщей истины.
Апеллируя к человеческому разуму, Эриугена стремится показать, что претензия
...