автордың кітабын онлайн тегін оқу Музей апокалипсиса: Что Помпеи рассказывают об истории человечества
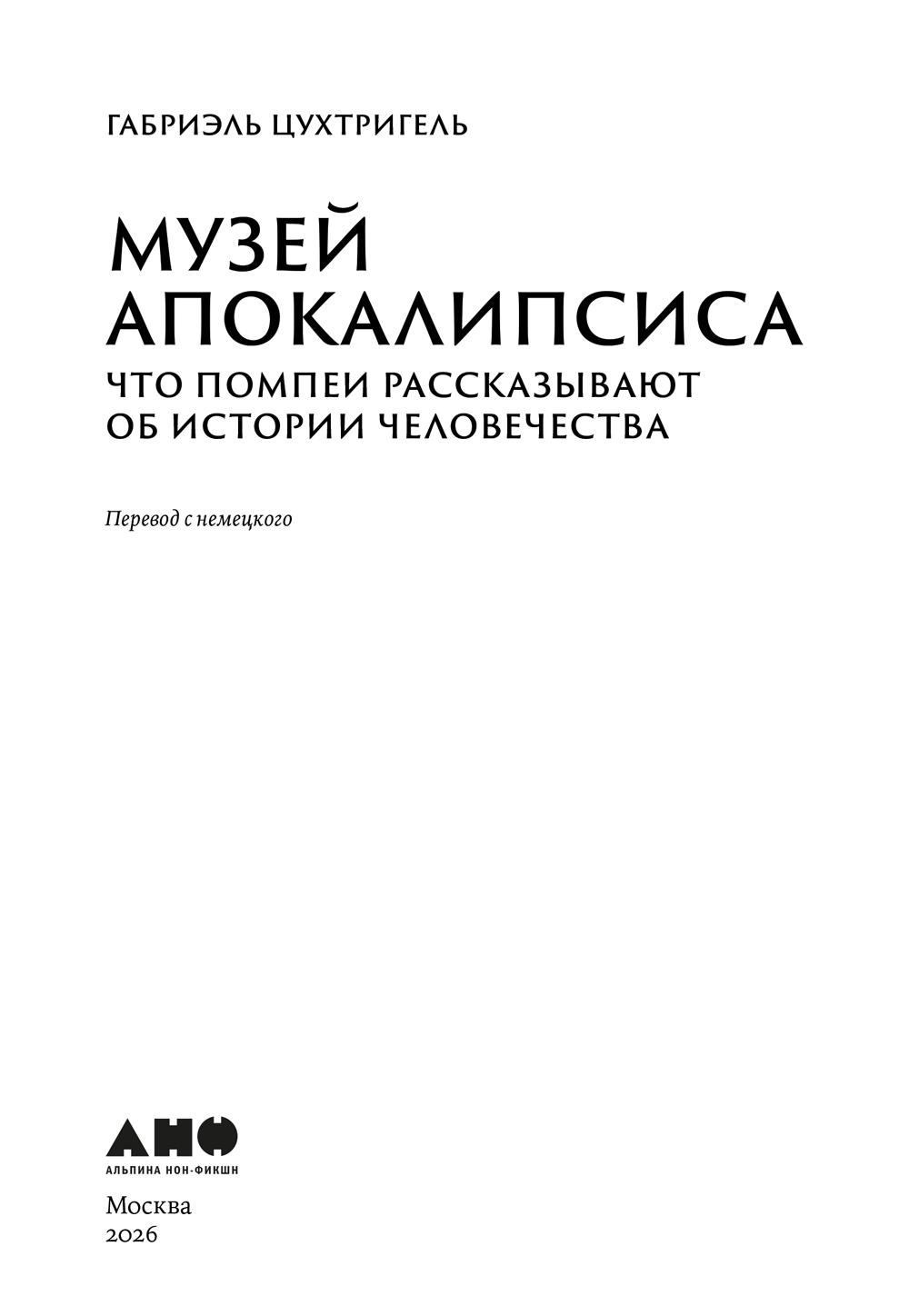
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Помпея выглядит как всякий другой город. Человеческая природа та же. И для живых, и для мертвых стоит все та же погода. Помпея словно проповедь утешения.
Помпеи мне нравятся больше, чем Парижи[1].
Г. МЕЛВИЛЛ. ДНЕВНИК (1857)
[1] Мелвилл Г. Энкантадас, или Очарованные острова: Дневник путешествия в Европу и Левант (11 октября 1856 — 6 мая 1857) / Пер. В. Н. Кондракова, Н. В. Димчевского. — М.: Мысль, 1979. — Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.
О рисках и побочных эффектах
Я не подозревал, что сердечные приступы, в том числе с летальным исходом, нередки среди посетителей Помпей, пока опытная сотрудница деликатно не обратила на это мое внимание через несколько недель после того, как я стал директором этого объекта ЮНЕСКО, в апреле 2021 г. С тех пор мы дополнительно усилили службу скорой медицинской помощи в античном городе. Из примерно 600 вызовов в год около 20% связаны с сердечно-сосудистыми проблемами. Обычно это списывают на жаркую погоду. Но единственная ли это причина?
В 2018 г. во Флоренции в полностью кондиционированном зале галереи Уффици у посетителя случился сердечный приступ перед «Рождением Венеры» Боттичелли. В СМИ заговорили о синдроме Стендаля, названном так в честь французского писателя, который в 1817 г., во время посещения базилики Санта-Кроче во Флоренции, впал в своего рода экстаз при виде окружающих его памятников искусства и истории. В 1970-х гг. флорентийский психиатр Грациелла Магерини обнаружила подобные симптомы у туристов, посещавших город. Так появился «синдром Стендаля» [1]. Поскольку официально этот синдром не признан заболеванием, список его симптомов остается открытым. Помимо сердечных приступов, также упоминаются учащенное сердцебиение, одышка и гипервентиляция легких, обморок, головокружение, повышенное потоотделение, тошнота, галлюцинации.
Мне еще не приходилось испытывать его на себе. Но есть несколько мест в Помпеях, где я не чувствую себя защищенным. К их числу относится Орто-деи-Фуджаски, Сад беглецов, на южной окраине античного города. Здесь археологи обнаружили 13 жертв извержения вулкана, который однажды осенним днем 79 г. н.э. погреб Помпеи под многометровым слоем пепла. Среди жертв несколько маленьких детей. Примерно в 7:30 утра, почти через 20 часов после начала извержения, они встретили здесь свою гибель, пытаясь выбраться из города. Настигнутые волной раскаленных газов, около 400 °C, которая распространялась со скоростью почти 100 км/ч от расположенного рядом вулкана Везувий, беглецы были повержены на землю. Многие защищают лицо руками, один мужчина из последних сил пытается привстать. Маленький мальчик держится за грудь, беспомощный против мощной ударной волны из пыли и пепла, накрывшей его с головой. Он кажется спящим, его рот слегка приоткрыт.
Это только 13 из 1300 жертв извержения Везувия, найденных при раскопках в Помпеях на сегодняшний день, но 13, чьи черты лица, прически, одежда, телосложение нам точно известны, словно они умерли несколько часов назад. Пепел и пыль, окутав их, затвердели, а сами тела разложились, оставив таким образом полость в породе.
Когда во время раскопок с апреля по июнь 1961 г. археологи находили эти полости, они заливали в них гипс. Так, спустя 19 веков, слепки этих людей оказались перед нами. Или это все же не слепки, а они сами? Как обращаться с такими «находками»? И что наше обращение с ними может рассказать о нас самих?
Такие вопросы в Помпеях иногда требуют совершенно конкретных ответов. Например, когда я веду группу потенциальных спонсоров из Торгово-промышленной палаты Неаполя по Помпеям, как это произошло через несколько недель после моего приезда сюда. Тогда я вновь увидел эти полные ожидания лица, как бы требующие: давай, начинай! Объясни нам, зачем мы вообще здесь, стоило ли ради этого приезжать. Должен ли я включить детей, женщин и мужчин из Сада беглецов в свою экскурсию и попытаться поделиться своим переживанием с людьми из Торгово-промышленной палаты? Или это стало бы своего рода предательством? Выдал бы я, говоря о 13 жертвах, что-то сокровенное и о себе самом? В конце концов, может быть, в этом будет часть и моей вины, если у кого-то из экскурсантов разовьется синдром Стендаля?
Эта книга на все эти вопросы отвечает: «Да!» Поскольку на моем профессиональном пути археолога — от работы экскурсоводом в Пергамском музее в Берлине во времена учебы до Помпей — мне давно стало ясно: проблема не в синдроме Стендаля. Статистически сердечные приступы и прочие симптомы в Помпеях случаются не чаще, чем в любой другой пешеходной зоне. Проблема в другом, обозначим ее так: синдром коллекционера.
Синдром коллекционера
Коллекционер рассматривает все с позиции обладания: подойдет ли это для моей коллекции? Собрал ли кто-то больше, чем я? Постоянная оценка, накопление, сравнение, взвешивание, экспертиза. Он воспринимает мир как некий супермаркет, где нужно набить товарами тележку — насколько хватит средств на кредитной карте.
Я постоянно встречал людей, владеющих коллекциями античных произведений искусства, и поверьте мне: я не завидовал никому из них, скорее жалел, что такая замечательная вещь, как археология, низведена до груды движимого имущества. Однако синдром коллекционера распространяется не только на собирателей древностей. В определенной степени мы все им страдаем — это просто черта нашего материалистического мира.
Согласно одному научному исследованию, существует два важнейших мотива посещения музея: накопление знаний и впечатлений [2]. При ближайшем рассмотрении выясняется, что под «накоплением впечатлений» подразумевается возможность поставить галочку: побывать в Помпеях — сделано! Впечатление, которое нуждается в отметке о получении, выбирают исходя из того, что на слуху. То есть эта группа посетителей направляется туда, где непременно надо отметиться. Это как бы выполнение дел по списку. Как, ты никогда не был в Лувре?.. Тогда вперед, иначе ты не полноценный человек/археолог/историк искусства! Одним словом, страдающие синдромом коллекционера живут с постоянным ощущением того, что нужно еще куда-то спешить, еще кем-то стать, еще что-то приобрести, будь то знания, опыт или имущество.
Я бы даже предположил, что коллекционирование в широком смысле является самой сильной мотивацией, по крайней мере судя по большинству посетителей, с которыми я сталкивался в качестве гида в археологических музеях и парках. Прежде всего они хотят узнать: зачем вообще они добавили это место в свой список достопримечательностей.
Потребность отметиться и поставить галочку, конечно, прекрасно удовлетворяется с помощью социальных сетей. То, что люди сначала фотографируют, а потом смотрят, мои бабушки и дедушки сочли бы за шутку, но сегодня мы уже давно к этому привыкли. И это совершенно нормально, речь ведь не о том, чтобы что-то кому-то навязывать.
Иначе обстоит дело с еще одним симптомом синдрома коллекционера: забрать с собой что-нибудь на память. Каждую неделю в Помпеи приходят посылки и пакеты с кусочками лавы, фрагментами мозаики или глиняными черепками, которые кто-то прихватил с собой. Раскаяние настигает через годы, иногда через десятилетия — недостаток коллекционирования заключается в том, что накопленное в какой-то момент может оказаться обузой. Предметы из Помпей (их вынос за пределы археологической зоны, кстати, преследуется законом) к тому же, согласно распространенному поверью, приносят несчастье. Иной раскаявшийся собиратель сопровождает возврат перечнем случившихся с ним бед, что порой даже вызывает сочувствие. Мне уже доводилось читать о разводах, потере работы и даже об онкологических заболеваниях. Вот, к примеру, письмо, датированное летом 2022 г.:
Уважаемый директор музея,
я собиратель камней, и везде, где бы я ни оказался, я подбираю большой или маленький камень.
Поэтому, когда я посетил Помпеи в 2012 г., я подобрал вот эти камни и маленький кусочек керамики, который нашел на земле.
Некоторое время назад я прочитал статью на сайте CNN, а также в Lonely Planet, где речь шла о людях, возвращавших взятые предметы, потому что они принесли им несчастье. С тех пор эта история не выходит у меня из головы.
Я оглянулся на свое прошлое и теперь ясно вижу, что дела у меня в жизни и карьере с 2012 г. идут не лучшим образом. Мне даже до сегодняшнего дня приходилось сталкиваться с некоторыми серьезными проблемами со здоровьем.
Я не знаю, существует ли «проклятие» на самом деле или нет, но я решил вернуть эти предметы туда, откуда их взял…
К какой из этих групп присоединился бы сам Стендаль? Конечно, не к «коллекционерам»: всю жизнь он был неутомимым путешественником, и у него не было места, где можно было бы держать накопленное добро, материальное и духовное. Отпадает и другая, довольно многочисленная, согласно исследованию, группа: те, кто ходит в музеи ради своего партнера или партнерши. Не говоря уже о тех, чей главный побудительный мотив — посещение общественных туалетов. Они тоже составляют отдельную группу, хотя, к счастью, совсем малочисленную!
Лучше всего Стендаль вписался бы в категорию тех, кого в специальной литературе называют «духовными странниками» [3]. Они идут в музей или в археологический парк, чтобы зарядиться энергией, лучше узнать себя, найти вдохновение и почувствовать свободу. Открыть для себя нечто новое, подобно ребенку — впервые. Не прорабатывать чужие списки достопримечательностей, а доверять собственному восприятию. Так посещение музея действительно может стать духовным опытом. Ведь речь идет о нас самих или о том, чтобы перерасти себя. Стендаль говорил о «небесных ощущениях», сопровождавшихся полным «истощением» собственного «я» [4]. Сегодня это может звучать претенциозно, но это вполне соответствовало тогдашнему словарю, который использовался для описания духовного опыта. Если обратиться к буддийской терминологии, это, вероятно, можно было бы назвать «первым уровнем созерцания».
Предупреждаем, что определенные побочные эффекты нельзя исключать, даже если последствия любования искусством для здоровья, как мы видели, научно не доказаны. Искусство и археология имеют много общего с болью, потерей, смертью и насилием, совсем как наша собственная история. В Помпеях, городе, который в 79 г. н.э. был «заживо погребен» Везувием, это ощущается сильнее, чем где бы то ни было. При виде гипсовых слепков детей, погибших во время катастрофы, даже после многих лет научной работы, для которой такие артефакты, собственно, и являются «сокровищницами», исследователь во мне отключается. Пятилетний мальчик, которого после 18 часов пемзового дождя и тьмы накрыло 400-градусной волной пыли и пепла, пробуждает во мне первобытный детский страх: остаться одному в самой страшной беде. Мама и папа ведь уже ничем не могли помочь, они боролись за собственную жизнь.
С другой стороны, никакое научное описание не способно запечатлеть тот момент маленького счастья, когда мы с Кристофером Кларком, приехавшим в Помпеи на съемки документального фильма, наткнулись в хранилище на небольшую скульптуру спящего мальчика-рыбака. Плащ, которым он накрылся, оказался коротковат, поэтому он свернулся клубочком, чтобы не замерзнуть, — точно так же иногда делает мой восьмилетний сын. Его кувшин с водой опрокинулся, из корзины, лежащей на земле, ворует еду крыса. В самый разгар съемочного процесса это было как привет, прилетевший от нашего внутреннего счастливого ребенка. Мы тогда спонтанно решили включить эту скульптуру в документальный фильм.
В связи с этим мне приходят на ум две фразы из описания Стендалем своих флорентийских переживаний, они говорят нам гораздо больше, нежели часто цитируемые слова про сердцебиение и головокружение, которые он испытал по дороге из церкви: «…все это так много говорит моей душе. Ах, если бы я мог забыть!..»[2] [5]
Почему забыть? Я точно не знаю, но подозреваю, что это означает: такого рода опыт не поддается коллекционированию и архивированию, а еще его нельзя заранее спланировать, как поход в ресторан. Но прежде всего, потому что все наши предварительные знания тут скорее помешают, нежели помогут, и поэтому на мгновение лучше обо всем забыть. Такая встреча случается в этот момент между тобой и произведением искусства, а потом она заканчивается. И то, что от нее остается, — это не закрепленное знание, не галочка в списке, а лишь кратковременный побег из плена настоящего: рукотворные предметы и произведения искусства, созданные сотни или даже тысячи лет назад, вдруг начинают разговаривать с нами, если мы к ним прислушиваемся. К группе «странников духа» относятся те, кто ходит в музей, чтобы вот так прислушаться, и они рискуют испытать синдром Стендаля.
Мы все можем присоединиться к этой группе. С точки зрения психологов, занимающихся музеями, это довольно просто, попробуйте сами: представьте, когда вы идете в музей, что кто-то спрашивает вас для научного исследования, чего вы от этого посещения ожидаете. И вы отвечаете: чтобы увиденное заговорило с моей душой!
Что нами движет?
Конечно, все не так просто. Возможно, студент-психолог, раздающий анкеты, тоже не понимает литературных намеков и воспринимает вас как шутника, не желающего отвечать всерьез. Именно поэтому я написал эту книгу. Она начинается там, где, на мой взгляд, скрыт один из источников проблемы. Тому, кто пускается в странствия, необходим двигатель, который его направляет. Нечто, что нас привлекает, подобно тому как Стендаля влекла к себе Италия, страна, куда он постоянно возвращался.
У каждого есть такой двигатель, но мы, археологи и историки искусства, надо признать, делаем поразительно мало, чтобы его запустить. Ведь мы сами часто не понимаем, откуда черпаем энергию, чтобы годами изучать разбитые амфоры или фрагменты надписей. И в результате мы начинаем дрейфовать в сторону чистого коллекционирования фактических знаний и книжных ссылок. Поэтому никого не должно удивлять, что и публика застревает на коллекционировании.
Можно представить это следующим образом: молодой человек поступает в университет на отделение археологии в надежде, что «все живо заговорит с его душой». Но в университете о душе и речи нет. Вместо этого начинается сплошное коллекционирование: оценок, дипломов и каталогов. В археологии мы составляем каталоги всего и вся: ваз, саркофагов, изобразительных мотивов, типов зданий, а также гвоздей, доменных шлаков и черепицы, найденных при раскопках. Позже, во время учебы в аспирантуре, начнется коллекционирование собственных публикаций, поскольку это крайне важно для дальнейшего карьерного роста. Когда вы перейдете на следующий уровень, все продолжится: теперь важным становится стороннее финансирование — деньги на проекты от Немецкого исследовательского фонда или ЕС, с которыми уже можно подать заявку на должность профессора. Потому что решающим при оценке кандидатов является то, сколько средств они привлекли из внешних источников финансирования.
Тот, кто к этому моменту еще не забыл о вещах, которые «живо говорят с душой», в подавляющем большинстве случаев научился держать их при себе как нечто настолько сугубо личное, ненаучное, детское, что даже и признаваться в этом, возможно, немного неловко. То, что изначально было движущей силой, в научном мире считают неважным или даже прячут, как мотор машины — под капот. В итоге мы обучаем новые поколения коллекционировать публикации и привлекать финансирование извне, разрабатываем проекты для научных выставок и музеев, не особенно задумываясь об ощущениях как таковых, не говоря уже о «небесных».
Ладно, признаюсь, все это немного преувеличено и наверняка не совсем справедливо. У меня было несколько фантастических учителей, щедро поделившихся со мной своим вдохновением, открытостью и душевностью. Однако это не было мейнстримом, а тот, кто поступает по-другому, часто плывет против течения.
Объяснять произведение искусства, древний город или целую культуру — все равно что сеять семена. Можно усовершенствовать технику посева, поливать, удобрять, ухаживать и лелеять ростки. Но для успеха нужно еще кое-что: плодородная почва. Плодородная почва — это возможность для аудитории дать этому семени прорасти. Без этого все усилия бессмысленны. В науке о взаимодействии с искусством (музеологии) эта способность обычно рассматривается как нечто, находящееся вне нашей досягаемости. Мы стараемся продумать все возможное, от освещения до надписей и доступности для людей с ограниченными возможностями, но посетителей мы принимаем такими, какие они есть. Точно так же, как компании принимают своих клиентов как данность. И это действительно так. Ни один музей или археологический парк не должен позволять себе выбирать свою публику: все и каждый — желанные гости.
Мы должны начинать с самих себя. Поэтому я решил в этой книге «приоткрыть капот»: на примере Помпей я объясняю, что побуждает такого археолога, как я, всецело посвятить себя этому месту: от туалетов (это не шутка, у нас уже были недовольные посетители, писавшие по этому поводу министру культуры) до последних по времени раскопок, которые до сих пор добавляют новые, а порой и удивительные аспекты к нашему представлению об античном городе.
О чем идет речь
Кстати, то, о чем здесь идет речь, совсем не ново. Просто специалисты обычно обходят это молчанием. Удивительно, если посмотреть со стороны, как редко в университетской и музейной работе сквозь объективную видимую поверхность прорывается наружу то, что на самом деле движет нами эмоционально и «говорит с нашей душой». Понятно, что такое не пишут в заявках на гранты или в научных публикациях. Но то, что коллеги так редко касаются этой темы, все же немного странно. В конце концов, мы говорим не о квантовой механике, а о человеческом общении и опыте, ведь именно этим занимаются история искусства и археология.
План храма сам по себе совершенно неинтересен, если он не служит для реконструкции эстетического, религиозного, социального и эмоционального опыта, который с его помощью хотели передать заказчики строительства и архитекторы. С этой точки зрения в каждом строении заключен целый мир. И цель воссоздания этого мира состоит в том, чтобы расширить и, вероятно, также переосмыслить наш собственный мир. Другой мир возможен, следовательно, возможны и изменения. Вещи менялись в прошлом, иногда радикально, и будут меняться в будущем.
Тем не менее есть множество научных книг, заполненных планами храмов, но не содержащих ни слова о человеческом опыте, который связан с этими зданиями. И, что удивительно, есть авторы таких книг, которые никогда не зададутся вопросом не только о своем собственном эмоциональном опыте, но и об опыте древних посетителей храма. Для них собрать в одном месте и сопоставить планы — как будто бы самоцель, необходимая, чтобы получить одобрение некой вышестоящей бухгалтерской инстанции. Однако то, что в одном храме было 6 × 13 колонн, а в другом 6 × 14, еще не является знанием, тем более «научным», это просто цифры. Впрочем, подобное можно увидеть даже в некоторых путеводителях. Но ведь туристы сами стоят перед храмом и могут сосчитать колонны! Интереснее было бы объяснить, что происходило в этих колоннадах, но для многих это уже подозрительные спекуляции.
Поднимаясь по высоким ступеням древнегреческого храма, всем телом ощущаешь, что эти здания не созданы по человеческой мерке. Порог внутреннего пространства храма Нептуна в Пестуме, построенного в V в. до н.э., достигает 82 см в высоту. Таким образом, архитектура физически дает понять, что человек для нее слишком мал: греческий храм задуман как «дом божества», которое в нем «обитает». Кстати, я понял это только после того, как сам получил доступ во внутренние помещения храма, будучи директором Археологического парка Пестума, где я работал до перехода в Помпеи. Это было в 2015 г. После этого было принято решение открыть для публики внутренние пространства храмов, которые до этого были недоступны, — в случае с храмом, известным как «Базилика», даже с безбарьерным маршрутом, первым и пока единственным в археологических руинах такого рода.
В Помпеях я тоже стараюсь каждый день, когда не уезжаю в командировку, побыть среди двухтысячелетних домов. Если это не получается во время работы, из-за совещания на одной из многочисленных реставрационных площадок или экскурсии, я, прогуливаясь вечером, прошу охранников отпереть мне временно закрытые дома. В ходе таких, казалось бы, непродуктивных, но все же (или именно поэтому?) вдохновляющих прогулок мне часто приходят в голову новые идеи и внезапно открываются новые перспективы.
Во время учебы речь о таких вещах почти никогда не заходила. Я поступал в Берлинский университет имени Гумбольдта, воображая, что окажусь среди людей, разделяющих мое восхищение Античностью. Но если они и разделяли его, то большинство это хорошо скрывало. На семинарах и в разговорах на переменах чаще всего старались лишь козырнуть фактическими знаниями. Когда однажды Лука Джулиани[3] приехал из Мюнхена в Берлин и во время гостевой лекции представил умирающего галла — он действительно сел на пол в этой позе, — чтобы показать, что его попытка приподняться, опираясь на правую руку, обречена по анатомическим и физическим причинам, в чем каждый может убедиться сам, это было как озарение.
Тем не менее свою дипломную работу я написал совсем о другом: о латринах и канализационных системах в древнегреческих городах. В ходе своих изысканий я пришел к выводу, что в период греческой классики их не существовало и что мы должны представлять себе улицы древних Афин и других культурных центров как клоаки под открытым небом. Исключением были только святилища и храмы, поскольку граница между грязным и чистым имела религиозное обоснование. Ретроспективно — моим эмоциональным двигателем был бунт против стерильно-выбеленного образа классики. Это был своего рода протест против истеблишмента, и действительно, не заставила себя ждать реакция со стороны некоторых профессоров, не желавших и слышать ни о чем подобном.
Однако дело вовсе не в этом. Данный пример просто демонстрирует, что эмоциональные мотивы играют важную роль в выборе темы, в подходе и в реакциях. Мне показалось увлекательным представить себе Акрополь, где сохранилась надпись, запрещающая коровам испражняться в святилище (как можно было заставить животных соблюдать этот запрет — неизвестно), словно остров, содержащийся в чистоте посредством всевозможных ограничений, правил и архитектурных барьеров, в городе, полном мусора и зловония. Тогда я не говорил ни с моей научной руководительницей, ни с кем-либо еще о том, что на самом деле подвигло меня на эту работу. Многое прояснилось для меня только спустя время.
Вот о чем пойдет речь в этой книге: чем Античность интересна нам сегодня, что она рассказывает нам о нас самих? Что делает важными археологические открытия, о которых иногда сообщают СМИ? Чтобы выяснить это, мы должны позволить себе соприкоснуться с нашей личной историей и с нашими эмоциональными мотивами. Без них не было бы ни археологии, ни истории искусства, ни истории, они просто не имели бы смысла. Стендаль это знал, и мы все в принципе тоже знаем. Нам нужно лишь понять, что прошлое имеет не меньшее отношение к стоящим перед нами вызовам и формирующим нас воздействиям, чем к тем вызовам и воздействиям, с которыми сталкивались предыдущие поколения; что мы — продукт прошлого, тех решений, которые люди принимали иногда столетия назад, но что, с другой стороны, наше решение смотреть на историю под тем или иным углом также оказывает влияние на настоящее и будущее. С этой точки зрения прошлое на самом деле не ушло безвозвратно: мы, вновь и вновь говоря о нем и открывая его, находимся в самой гуще событий. Вместе с Тит Нат Ханом, буддийским монахом и учителем, это можно было бы назвать «меж-бытием» (interbeing). Здесь не существует универсального рецепта, но я попытаюсь объяснить это на примере моей работы в Помпеях. Забегая вперед, скажу: это не имеет ничего общего с числом колонн!
[3] Лука Джулиани (род. 1950) — известный специалист по античной археологии, работающий в Германии. — Прим. науч. ред.
[2] Цит. по: Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция / Пер. Н. Рыковой. — СПб.: Азбука, 2017. С. 274.
2. K. N. Cotter, A. Fekete, P. J. Silvia. Why Do People Visit Art Museums? Examining Visitor Motivations and Visit Outcomes. Empirical Studies of the Arts 40.2, 2021. P. 275–295.
3. J. H. Falk. Viewing art museum visitors through the lens of identity, Visual Arts Research 34.2, 2008. P. 25–34.
1. G. Magherini. La sindrome di Stendhal. Il malessere del viaggiatore di fronte alla grandezza dell’arte, 2003.
4. Stendhal. Rome, Naples et Florence, 1826. P. 102.
5. Ibid. P. 101.
1. Что особенного в классическом искусстве?
1
Что особенного в классическом искусстве?
Эффект Помпей
«Они уверены, что имеют в виду меня?» — пронеслось в моей голове среди множества других вопросов, когда однажды дождливым февральским днем 2021 г. в моем кабинете в Пестуме раздался телефонный звонок из секретариата министра культуры. За неделю до этого я был в Риме в числе десяти кандидатов, представивших отборочной комиссии свои идеи по управлению Помпеями. Это было в четверг. После окончания собеседований отборочная комиссия предложила министру, которому принадлежит решающее слово при назначении, три имени.
Но все это происходит в строгой тайне; только потом узнаешь, кто участвовал в последнем туре. Тем не менее, когда раздался звонок, мое сердце забилось: об отказе обычно сообщают не по телефону, а в любезном письме с пожеланиями дальнейшего профессионального роста. Разговор был довольно коротким. «Я назначаю вас директором Помпей», — сказал министр и добавил, что я смогу рассчитывать на поддержку министерства. И еще кое-что: ни слова никому до официальной презентации через три дня в Колизее в Риме.
Повесив трубку (я сказал: farò del mio meglio, что-то вроде: «Я сделаю все, что в моих силах»), я почувствовал легкое головокружение. Я вышел на воздух, к руинам храма в Пестуме, когда уже смеркалось. Помпеи! Для классической археологии (то есть археологии, занимающейся Древней Грецией и Древним Римом) это примерно то же самое, что Ватикан для католической церкви. Место, которое внесло существенный вклад в развитие современной археологии и методов раскопок. Но также и чрезвычайно уязвимое место. Двухтысячелетние стены, строители которых никогда бы не подумали, что они простоят до наших дней, многие из них покрыты штукатуркой и фресками, которые меняли, как современные обои, в соответствии с текущей модой. Все это подвергается воздействию погоды, страдает от потоков посетителей, в некоторых случаях уже более 200 лет (раскопки в Помпеях начались в 1748 г.). Таким образом, Помпеи представляют собой огромную проблему с точки зрения охраны памятников. Это большая ответственность, и она передается из поколения в поколение как хрупкая, нуждающаяся в защите реликвия.
Но прежде всего Помпеи являют собой уникальный образчик провинциального древнеримского города. С его домами, торговыми лавками, пекарнями, борделями, тавернами, фонтанами, площадями, храмами и кладбищами, которые в древности всегда располагались за городскими стенами. Помпеи — бесценная сокровищница для археологии.
Особенность Помпей заключается в том, что мы находим такие вещи, как статуи, живопись, жилую и храмовую архитектуру, а также предметы повседневного обихода в античном окружении, а не в так называемых вторичных контекстах, как это обычно происходит. Контекст обнаружения предмета считается «вторичным», если после использования сам предмет находится не там, где ему полагается быть, либо потому, что он был выброшен, либо потому, что, после того как поселение опустело, «постдепозиционные процессы», такие как погода, разложение, наводнения или строительные работы, приводят к тому, что перед археологами много веков спустя предстает довольно запутанная картина. Например, горшок с едой должен находиться на плите или на кухонной полке. Большинство кухонных горшков, которые в древности часто были керамическими, поскольку металл был дорогим и сложным в обработке, обычно находят при раскопках не на кухнях, а в виде черепков в мусорных кучах или в заполняющих слоях, куда попадают всевозможные отходы.
В Помпеях, однако, в ходе раскопок действительно обнаружили множество горшков на кухонных очагах, хлеб в печах, монеты в ящиках-кассах и даже неубранные постели в спальнях. В археологии это иногда называют «эффектом Помпей». В день извержения Везувия город был буквально законсервирован: уникальная возможность для современной археологии погрузиться в древний образ жизни.
Проблема с классикой
Мои сомнения в том, что министр действительно выбрал правильного человека, возможно, возникли не на пустом месте: честно говоря, меня никогда особо не интересовала собственно «классическая» сторона классической Античности. Возникает вопрос, что такой человек делает в Помпеях — в месте, являющемся наряду с Афинами и Римом памятником ЮНЕСКО, где классическая Античность не только представлена, но и буквально прославлена. Возможно, эта книга даст ответ на этот вопрос — ответ, который не может быть четким и однозначным, потому что наши отношения с классической традицией во многом так же двойственны, как и отношения между детьми и родителями: мы очень многим обязаны ей, но она также возложила на нас бремя, которое мы еще долго будем нести. Как и отношения между родителями и детьми, наши отношения с «классикой» также тяготеют к эмоциональности. И я здесь не исключение.
Это, вероятно, связано с тем, что я еще в детстве понял: «классическое образование» часто служит не для бескорыстного поиска истины и красоты, а, скорее, является механизмом социального расслоения. Такое образование не всякий может себе позволить: уроки игры на фортепиано, семейные поездки в Помпеи, Афины или Париж, учеба в университете… И вообще, неужели кто-то всерьез верит, что отбор в трехуровневой немецкой школьной системе происходит объективно, в соответствии со способностями и успеваемостью учеников? Как правило, в гимназию по-прежнему поступает больше детей, чьи родители получили высшее образование, а дети из так называемых малообразованных семей идут в основную школу.
Я учился в гимназии, и да, я брал уроки игры на фортепиано: несколько лет у собственного отца, который зарабатывал этим на жизнь. Для ребенка разведенных родителей в сельской Верхней Швабии — мать медсестра, отец «артист», что само по себе уже подозрительно, — классическое образование казалось прежде всего чем-то, что позволяло получить доступ в «приличное общество».
В нашей деревне мы были одной из первых семей, где родители развелись. Поскольку мама приходила с работы только вечером, добросердечные родители наших с сестрой одноклассников в определенные дни недели приглашали нас к себе — обедать. Мы робко сидели рядом с людьми из «приличного общества», от которых нас отделяла невидимая социальная пропасть и, кстати, кулинарная тоже: швабские домохозяйки готовили гораздо лучше моей мамы. Но мы, дети, заметили, что все же есть возможность получить признание: с помощью «культуры». Когда я играл что-то на фортепиано или, того лучше, аккомпанировал церковному хору, учителя и родители считали это чем-то замечательным. И если я был прилежен в школе, то мог надеяться, что мама, вечно обеспокоенная финансовыми проблемами, придет домой с родительского собрания сияющей и скажет: «Я так тобой горжусь!» Я смог добиться, чтобы родители моих одноклассников стали нанимать меня репетитором по латыни, и как-то раз один солидный отец семейства, состоявший в правлении благотворительного фонда, похлопал меня по плечу и сказал: «Ну-с, господин профессор?» Академическая карьера, вероятно, была тем поприщем, благодаря которому он полагал возможным принять меня в «приличное общество».
Итак, причины, по которым я получал классическое образование и занимался классической музыкой, были связаны с нашей семейной ситуацией и не имели ничего общего с искусством в его возвышенном смысле. Конечно, тогда я не осознавал этого настолько ясно, и это были не единственные причины, побуждавшие меня читать «классиков», играть на фортепиано или учить латынь. Было нечто еще: революционный, преобразующий потенциал «классического» искусства, но это я понял гораздо позже. Долгое время классическая культура казалась мне просто навязанным сверху образовательным каноном, с которым необходимо считаться. Бетховен был обязателен, хотя блюз нравился мне гораздо больше. «Грезы» Шумана, которые мы проходили на занятиях фортепиано, восхищали меня не больше, чем цветы герани на балконе моей крестной. По сравнению с Лао-цзы Сократ казался мне скучным и надоедливым со своими бесконечными вопросами. Вместо «Мифов классической древности» Густава Шваба, которые моя мама держала на книжной полке, я предпочитал читать мифы индейцев Северной Америки. Трудно было найти произведение искусства, оставлявшее меня более равнодушным, чем Аполлон Бельведерский, которого Иоганн Иоахим Винкельман, основатель классической археологии, превозносил в XVIII в. как идеал классической красоты. Мне было непонятно, что такого прекрасного или тем более возвышенного можно увидеть в голом мужчине в сандалиях, который выглядит как неуклюжий нудист на галечном пляже. Во время школьной поездки в Рим я предпочитал бродить по извилистому гетто, средневековому еврейскому кварталу на берегу Тибра, а не по античному Римскому форуму, который казался мне удручающе небольшим и знакомым. Гораздо более увлекательными, чем классический храм во всей его симметрии и прозрачности, я находил старые фермы, прижимавшиеся к верхнешвабским холмам, где, казалось, дремали вековые тайны. Пожалуй, это был самый окольный путь, ведущий к городским виллам Помпей с их цветной лепниной, имитирующей греческий мрамор, сохранившейся во всех своих оттенках благодаря «эффекту Помпей». Или нет? Может быть, одно ближе к другому, чем кажется?
Хроника катастрофы
Из-за чего, собственно, возник так называемый эффект Помпей? Насколько точно нужно представлять себе хронологию извержения Везувия, сохранившую для нас город классического мира таким уникальным образом, включая хлеб в печи и горшки на плите? На этот вопрос не так просто ответить.
С одной стороны, нам в этом помогают античные источники, прежде всего два письма Плиния Младшего, адресованные историку Тациту. Плиний описывает в них, как его дядя Плиний Старший, командующий флотом в Мизене (к западу от Неаполя), отплыл на корабле — сначала чтобы посмотреть на это природное явление вблизи (дядя Плиния был не только высокопоставленным римским чиновником, но также страстным естествоиспытателем, написавшим «Естественную историю» в 37 книгах), а затем, когда он осознал всю серьезность ситуации, чтобы помочь людям, попавшим в беду. При этом его самого настигла гибель. Страдающий от избыточного веса и проблем с дыханием, он встретил свой последний час на берегу Стабий, недалеко от Помпей, откуда он с друзьями пытался спастись на корабле, что было невозможно из-за сильного волнения на море, сопровождавшего извержение вулкана. Когда, как сообщает его племянник Плиний Младший, на «третий день» после начала катастрофы было найдено тело командующего, оно оказалось в «полной сохранности… походил он скорее на спящего, чем на уме
...