автордың кітабын онлайн тегін оқу Ибо мы грешны
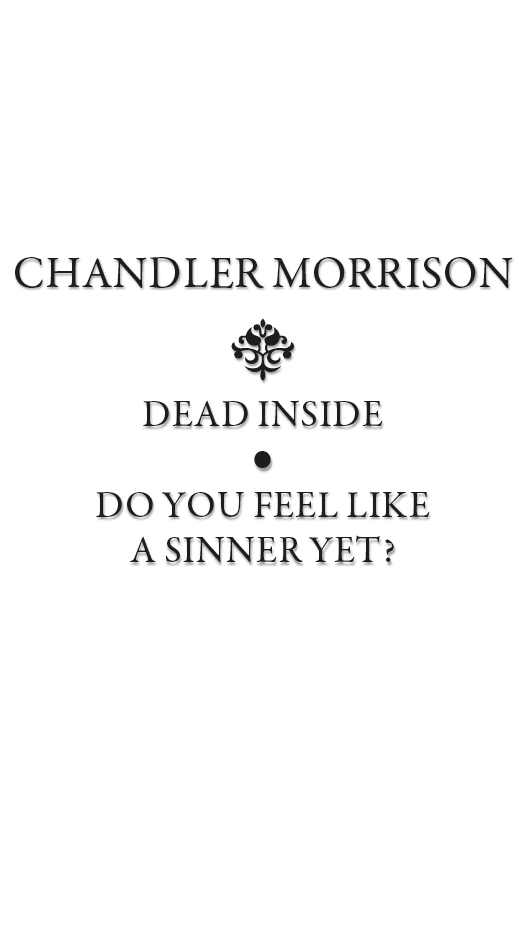
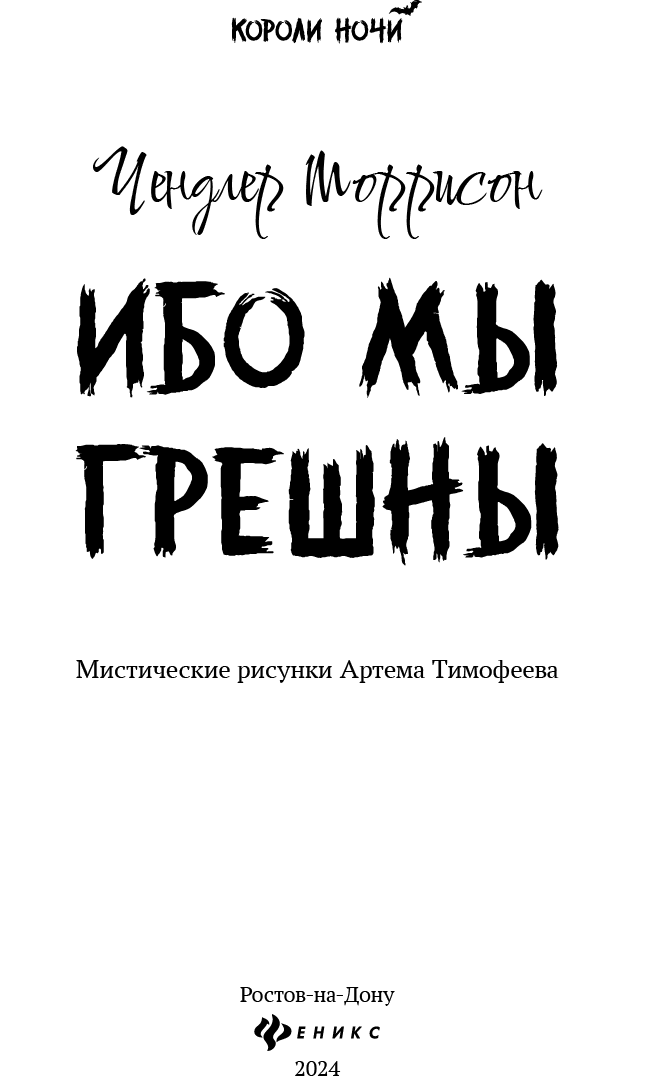
Панки крови не боятся
Роман ужасов Рика Р. Рида «Одержимый», изданный на русском языке в 1995 году в издательстве «Центрполиграф», предварен достаточно любопытной и, пожалуй, несколько наивной по современным меркам авторской преамбулой для читателя: «Перед вами одна из первых книг нового направления — темного вымысла, названного Бездной. Бездна — это ужас, подобного которому не вызывало ничто прочитанное вами до сих пор. Речь идет не о домах с привидениями, или детях греха, или старинных индейских захоронениях. Все мы читали те книги и знаем их сюжеты наизусть. Бездна влечет Искателя Истины, какой бы мучительной или непонятной она ни казалась. Это — все мы и то темное, что мы в себе носим. Бездна — это ужас, рождающийся на границе света и тьмы. И там, где мы лицом к лицу встречаемся с ним, мы находим самих себя. Темнота как бы высвечивает нас, выявляет наши пороки, наши тайные помыслы и опасения, наши мечты, честолюбивые замыслы и жажду вырваться на свободу. И тот, кто пройдет этот путь до конца, теряет себя, приобретая взамен жизненный опыт».
«Одержимый» Рида, вполне себе типичный представитель поджанра «сплаттерпанк», был написан в 1991 году. Сам же термин, как утверждает история, был изобретен в 1986-м — писателем Дэвидом Дж. Шоу, без малейшей серьезности предложившим этот термин для обозначения литературы ужасов, где автор не скупится на яркие, подробные описания сцен насилия и в центр повествования ставит таких героев, каким сопереживать не столь просто, как среднестатистическому персонажу Стивена Кинга: социальных изгоев, людей с низов общества, психически больных или каким-либо иным образом стигматизированных людей. Можно предположить, что Рид термина «сплаттерпанк» попросту не знал — не всем ведь довелось побывать на Двенадцатой Всемирной конференции фантастики, проходившей в отеле «Билтмор», Провиденс, Род-Айленд (в этом месте тень Отца-Лавкрафта передает нам пламенный привет), поэтому и попробовал изобрести какое-то свое определение. Так или иначе, нечто подобное носилось в воздухе на рубеже восьмого и девятого десятилетий ХХ века. «Темный вымысел» «нового направления» отчаянно требовал себя как-либо обозначить, и так уж получилось, что ироничный неологизм Шоу стал вполне серьезным (как минимум — на Западе) литературоведческим термином.
Этимология слова достаточно простая: splatter — 'брызгать' (в данном контексте — разумеется, кровью), ну а punk — термин многозначный: «панк» как социальная позиция, «панк» как борец с постылой всеобщей нормой, некто, не вписывающийся в устоявшиеся правила, и т. д. На самом деле здесь уместно предложить еще и трактовку «повернутый на чем-либо», то есть «панк» как крайне опосредованный синоним современного, навязшего в зубах термина «гик» — и тогда-то картина вырисовывается ясная: если Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга, «повернутых» на неоориентальной эстетике и высокотехнологичности, называли «киберпанками», а писателей, обожающих эстетику викторианства и «паровой эры», позже назовут «стимпанками», то «сплаттерпанки» — это авторы ужасов, «повернутые» на кровавостях и эстетике социального дна. Всего-то.
Но, порядка ради, дадим еще раз слово Дэвиду Шоу: «Я придумал этот термин, чтобы описать гиперинтенсивный хоррор — ту его разновидность, которая отвергает все пределы разумного и пристойного, как у Клайва Баркера. Если Стивен Кинг — это сытный бургер из “Макдональдса”, то сплаттерпанк — это те самые мутные грибочки, которые могут открыть новые двери восприятия или, если у вас с ними несовместимость, вызвать дурноту и рвоту». Более вдумчивую трактовку Шоу дает в интервью 1999 года, взятом Оливером Роллом для немецкого журнала «Doom»: «По сути, каждая история, когда-либо рассказанная, при условии, что рассказчик компетентен, способна свернуть на территорию неизвестного и, таким образом, стать тревожной, или пугающей, или полной ужаса, или нервирующей, и мне нравится снимать это напряжение [показывая, чем именно грозит тот или иной монстр]. Недавно на книжной выставке меня поставил в тупик человек, который хотел узнать всю целостную историю и хронологию сплаттерпанка. Меня спросили: “Когда вы написали свой первый рассказ в стиле сплаттерпанка?” — и я не могу ответить на этот вопрос по той же причине, по которой Моне, вероятно, не смог точно определить, когда он написал свою первую картину в стиле “импрессионизм”. Я не сравниваю себя с Моне, но хотел бы всем напомнить, что причина, по которой импрессионистов так называют, — разгромная рецензия на их самую первую выставку, написанная ныне забытым искусствоведом, попытавшимся остро выстебать название картины Моне “Импрессия: Восход солнца”. Когда появились прерафаэлиты и назвали себя именно так, они пошли на опережение критиков, гораздых навесить на них ярлык. Так что сплаттерпанк — скорее эпоха, чем школа мысли или письма. Но я по-черному горжусь тем фактом, что выдуманный мной термин занесен в “Полнейший словарь английского языка”, вышедший в 1996 году в издательстве “Рэндом хаус”».
У любого явления есть негативные стороны, и у того, что сплаттерпанк обрел наконец имя, они очень скоро выявились тоже: поджанр этот стало слишком легко и просто ругать, лепить к нему ярлыки вроде «оскорбительный» или «непристойный», словом — клеймить. Ранние романы, созданные сторонниками нового направления, снискали шквал негативной критики — взять хотя бы «Пронзающих ночь» (1987) уже признанного классика литературы ужасов Джо Р. Лансдейла. Роман не уберегло ни напечатанное на суперобложке крупным шрифтом предупреждение «Экстремальное насилие, ненормативная лексика и сексуальные триггеры могут показаться некоторым читателям неприемлемыми», ни даже неоднократное заверение со стороны автора в том, что реальная обстановка с подростковой преступностью в Америке рубежа восьмидесятых-девяностых такова, что юные отморозки, описанные им, — случай почти что рядовой. Кстати, подобные trigger warnings отечественные издатели помещали в первых русскоязычных публикациях романов Ричарда Лаймона: «В связи с тем, что многие жестокие сцены в данном произведении описаны предельно натуралистично, книга не рекомендуется в качестве чтения для детей и подростков» (это сильное заявление в свое время скорее спровоцировало интерес автора настоящей статьи в пятнадцать лет — да и по какому-то недоразумению почти изданного тогда на русском Лаймона школьная библиотека; никаких возрастных ограничений на обложках книг в то время, напомню, не ставилось). Так или иначе — прошел ли проверку временем этот «шок-фактор»? Похоже, что все же нет: если рассматривать творчество Рекса Миллера в общем контексте остросюжетной литературы, он покажется вполне «рядовым» сочинителем маньячных триллеров. Никто и поныне не стремится записать в маргинальную литературу романы Филиппа Хосе Фармера «Пир потаенный» и «Образ зверя» (1968–1969), хотя по части порочно-безумных фантазий эти два текста смело соперничают с творениями Эдварда Ли — более того, они оставляют даже больший эмоциональный след в силу своей искусности. Трудноуловимый для жанровых рамок британский фантаст Джеймс Баллард написал роман, который заставил редактора усомниться в его психическом здоровье, — скандальное «Крушение», повествование о людях, получающих извращенное сексуальное удовлетворение, попадая в непоправимо увечащие их автокатастрофы, — но был высочайше оценен Жаном Бодрийяром (хоть и не понят читающим большинством); уместно вспомнить здесь и «Осиную фабрику» Йена Бэнкса. Многое из того, что было (и, несомненно, будет) присуще сплаттерпанку, ныне ярко представлено на страницах «большой литературы», а Клайв Баркер, на которого Шоу в свое время указывал как на ориентир нового направления, стал почти мейнстримным литератором, как и Стивен Кинг, — и не вызывает эмоциональной реакции былых времен ни у читателей, ни у критиков. Элементы экстремального хоррора при желании можно обнаружить в книгах Ирвина Уэлша, Рю Мураками, Чака Паланика; тенденции прослеживаются и у авторов триллеров — Тесс Герритсен, Стига Ларссона, Джоу Конрата, Блейка Крауча. Получается, главная проблема «сплаттерпанка» — как раз в том, что на него обратили внимание как на отдельное явление. Более скромные, удобоваримые ярлыки «триллер» и «хоррор» сослужили бы гораздо более добрую службу и «Пронзающим ночь», и многим романам Лаймона (кстати, у себя на родине, в Америке, автор популярным не стал, зато обрел почти культовый статус в Англии и Италии).
Но, возможно, порицание — оправдано? Зачем вообще писать литературу, где творятся ужасы на грани мыслимых, где персонажей ломают и корежат перипетии сюжета, где герои до того отрицательны, что на них, как говорится, «клейма негде ставить»? Зачем наводнять литературу подобным негативом — как будто его в жизни мало? Вероятно, именно такими вопросами задастся современный читатель, привыкший рассматривать жанр ужасов только как занятный элемент всеобщей машины литературного эскапизма.
Что ж, возможно, стоит снова обратиться к «случаю Балларда». Во введении к одному из изданий «Крушения» 1974 года он сетует на повсеместную «смерть аффекта», которую во многом обусловил технологический прогресс, предсказанный в научной фантастике сороковых-пятидесятых годов XX века. Некоторые запросы — в том числе не вполне здоровые — стало слишком легко удовлетворять, и это автоматически перевело их в норму; значит, на смену им должны прийти новые извращения, еще больше попирающие зыбкие границы дозволенного. Подобное непрестанное разрушение границ в исследовании «Силы ужаса» литературоведа, филолога и психоаналитика Юлии Кристевой названо «процессом ужаса». Допустим, человек сталкивается с чем-то настолько диким и возмутительным (по его личным меркам, разумеется), что границы собственного «я» для него становятся слегка размытыми, — насколько это хорошо? Для пуританина времен Мэри Шелли — возможно, ничего хорошего; но для современного человека, которого различные «темные» аспекты жизни буквально бомбардируют с ранних лет через СМИ, Интернет и социальную среду — для человека, привычного к насилию и подчас к эстетизации насилия, — кратковременный «нырок в гротеск» может в определенной мере исполнить оздоровительную функцию, тем самым подтверждая наличие в себе строгих моральных устоев и актуализируя их принятие на личностном уровне. Именно эту шокирующе-восстановительную силу ужаса пополам с отвращением использовал Баллард в своей трансгрессивной фантастике, силясь принизить глобальную «смерть аффекта». И, кажется, ответом именно на этот вызов стал в свое время сплаттерпанк. Девяностые были проблемным временем не только для СНГ, но и для всего мира; для тех, кто не верил, что в классический «американский беспредел» тех лет ворвется какой-нибудь герой-одиночка в духе Кобры из одноименного боевика (1986), сплаттерпанк, возможно, мог предоставить альтернативу, в которой дико своеобразный юмор, способный переплюнуть даже самые смелые образчики черной иронии, и гротескный мир чудаковатых героев со странными проблемами, порывами и сексуальными желаниями, мог предоставить утешение: «Ага, это они сошли с ума — я-то пока здоров». Сплаттерпанк — это проекция в мир немыслимого крайне рациональных страхов: боязни нападения, боязни физического увечья или болезни, многих других неприятных последствий для тела.
Справедливо заметить, что девяностые прошли — а вот сплаттерпанк никуда не делся, и он по-прежнему уверенно развивается в русле свежих культурных тенденций, которые постулируют «возвращение телесности» и «возвращение к реальности»». Эти «возвраты» легко фиксируемы и в часто мелькающих в сериалах, от фантастических до криминальных, показах полной наготы, физиологически достоверных сцен секса, а также дотошной, почти медицинской графичности в изображении мертвых и изуродованных тел. Эту тенденцию киноиндустрии к «ультранасилию» в таких франшизах, как «Хостел» (2005) или «Пила» (2004), обретающую «пиковую» форму в кинолентах по типу «Человеческой многоножки» (2009), «Бивня» (2014) и «Сербского фильма» (2010), философ Славой Жижек назвал не иначе как «страстью к настоящему»; субъективное отсутствие отвращения теперь, по-видимому, составляет опыт социальности и субъективности. Вид раненого, истекающего кровью тела, который пронизывает массовую культуру, не только отражает растущую «видимость реальности», но и обеспечивает средства представления нам самих себя, некое последующее переосмысление социальности и субъективности. Кроме того, если обратить внимание на израненное тело как на метафору состояния души, вихрем проносящейся через адские жернова современных тенденций — метафору, необычайно популярную во многих современных субкультурах, — «живучесть» сплаттерпанка уже не кажется удивительной. Да, возможно, это литература для людей особого склада; возможно, каким-то из авторов, работающих в этом направлении, изменяет вкус или чувство меры… но спрос на подобное чтение есть, а если есть спрос — есть и базис для проведения исследований литературного явления, есть и возможность взглянуть на субжанр непредвзято, без досужих рассуждений о допустимости в выборе автора тех или иных средств выразительности. Как ни прискорбно это отмечать, но люди часто забывают, что литература — это необозримый, раскинувшийся практически в бесконечность мир, полный абсолютно ничем не скованных, захватывающих дух возможностей. Текст — это мир; мир — это текст.
Превосходство рациональных страхов над иррациональными (или же наоборот) чисто умозрительно и на самом деле не имеет никакого отношения к реальному положению вещей — предпочтение одного другому имеет смысл лишь в глазах смотрящего. В целом, качество книги зависит скорее от писателя, а не от того, в каком жанре он будет работать. Поэтому не видно особого смысла в выстраивании пирамид типа «лучший подход — недостойный подход», хотя человеку и свойственно желание построить так или иначе «пирамиду» и возвести что-либо во главу угла, забывая, что одно ничуть не противоречит другому. И если говорить именно о качестве материала, оно необычайно высоко у многих писателей — опять же, если потрудиться это разглядеть: многие авторы сплаттерпанка — прямые наследники (по духу и иногда по букве) бесспорных американских классиков Джеймса М. Кейна (у нас известного в первую очередь по роману «Почтальон звонит дважды»), Джима Томпсона («Убийца во мне», «Дикая ночь») и «великого нью-йоркского циника» Корнелла Вулрича («Тысяча глаз ночи»). Если взять роман Кетчама «Кто не спрятался…» и на пару минут забыть, что фамилия автора указана на обложке, его вполне можно приписать Джеймсу Дики, автору «Избавления» — истории о том, как тонка грань между цивилизованностью и дикарством. В общем-то, стоит понять одно: сплаттерпанк не вырос сам по себе, как некий чуждый, инопланетный цветок, на излете времен; он никогда не появился бы без традиции «брутального натурализма» в литературе, заложенной еще чуть ли не Хемингуэем, и без схождения множества факторов социокультурного толка в одном месте. Это направление выстроилось на плечах у таких гигантов, чей авторитет ныне оспаривать бессмысленно.
И, конечно, никуда — без новых голосов. Чендлер Моррисон, чье творчество (очень разное и не исчерпывающееся одной лишь литературной «жестью», как будет очевидно уже по этой книге) стилистически ближе к Чаку Паланику и мастерам неонуара вроде Джеймса Саллиса (по чьей книге поставлен легендарный «Драйв» с Райаном Гослингом), но автор он, смею предположить, ничуть не менее талантливый. Да, роман, открывающий книгу, — намеренно провокативный; возможно, это даже слишком мягкая характеристика истории о попытке двух предельно маргинальных персонажей сблизиться на почве крайне странных взглядов на жизнь… но проза — превосходно минималистична, произведение читается влет, и, что самое главное, оно заставляет читателя сквозь призму обличительной сатиры лучше осознать, что чувствуют люди, которые отличаются от остальных из нас (и в каком свете они сами видят себя, становясь отверженными). «Жестокий романс» двух главных героев завораживает и ужасает, но специфичный авторский юмор, пробегающий алой нитью по всему тексту, нет-нет да и заставит понимающего читателя криво усмехнуться (по крайней мере, я усмехался не раз). Что-то в романе Моррисона — философия, ирония, упоминания хорошей музыки и хорошей литературы, немного поэзии и капелька темной романтики — найдется для любого читателя, если только читатель этот сможет преодолеть первый порог удивления и неприятия, отринув на время классические представления об ужасах. Впрочем, что-то подсказывает мне, что для многих в современном мире «смерть аффекта» — столь расхожий симптом, что попытки автора пробрать до дрожи могут быть встречены определенной долей аудитории (и не самой «возрастной» к тому же) со снисходительной улыбкой: «Да-да, нам бы их проблемы». Можно посмеяться над образом главного героя — инфантильного, взрослого мужчины, который думает и разговаривает, будто подросток из социальной сети, который отчаянно хочет казаться «не таким, как все»; но нет ли горькой авторской иронии в том, что главный герой, будучи одержим существованием вне норм общества, на самом деле — не что иное, как закономерный продукт этого общества, в ярких одеждах и с беззаботной улыбкой — лишенной тепла, как и все неживое, — постулирующего отчуждение как способ взаимодействия, пресечение эмоциональных связей (или, наоборот, излишний упор на экзальтированные эмоции) как действенный способ обретать «почву под ногами» и самоутверждаться по жизни? Безмерно оторванный от корней социум, полный излишеств, — вот в каком мире живет все больше и больше людей, сознательно стремится к такому миру; и излишествам писатель предлагает свои излишества — холодные, трезвящие, заставляющие получше взглянуть на самих себя. Что важно, безымянный герой романа Моррисона — не статичный образ; он ощутимо меняется в определенный момент, и, хоть эта перемена и противна ему самому, она важна, ибо на месте холодного «ходячего трупа», бравирующего своей инаковостью, в какой-то момент виден проблеск — мимолетный и уже самый последний — возвращенной человечности.
Сам же Моррисон так высказался в интервью Punk Noir Magazine о своем детище, обретшем скандальную славу: «Я ставил перед собой весьма конкретные цели перед тем, как написать этот роман, — и иногда мне кажется, что из-за громкой репутации читатели просто упускают, о чем я вообще хотел им сказать. По сути, это своего рода причудливая сатира на социальных изгоев и на то, как на их отношения влияют конформизм и ожидания, навязываемые толерантным обществом. Однако, когда я писал роман, я отсматривал один за другим кровавые французские неотриллеры — в которых художественная красота в кадре сочетается с узконаправленным насилием. Мне было интересно перенести этот прием в свою книгу — в то же время отчасти высмеяв его. В экстремальном насилии, которое тебе показывают “для острастки”, “пущего эффекта ради”, может быть что-то глупое по своей сути — и запекшаяся кровь на страницах моего романа призвана отразить эту глупость. Если вы сумеете одолеть его полностью — почти наверняка поймете, что я ни на минуту не был с вами серьезен. Значит, и вам это ни к чему. Многие люди, кажется, видят во мне хулигана, охочего до внимания — для получения которого все средства хороши. Вот уж что-что, а это никогда не входило в мои художественные задачи. Меня немного сбивает с толку то, как раздраженные читатели переживают из-за определенных сцен в романе, который насквозь ироничен и несколько нелеп по замыслу. В некоторые его сцены так и просится закадровый смех, разве нет? И в этом смехе — по сути, весь смысл».
Впрочем, о серьезности авторских намерений пусть судит читатель — по знакомству с текстом. Я же как переводчик могу уповать лишь на то, что знакомство это не пройдет блекло или скучно. Смею также надеяться, что представленный в книге нашумевший роман поможет понять не только, на что сплаттерпанк способен (лишь отчасти — ибо за бортом еще остается много всяких гротескных чудовищ), но и то, что литература — в целом, даже в наше низкоаффективное время — все еще способна «поддать огоньку». То есть слегка ошарашить. Хотя странно ожидать иного от искусства, в котором, подчеркну еще раз, возможно все.
Григорий Шокин
Обращение к русскому читателю
Дорогой Читатель!
Шокировать — это дешево. Это грязно. Это просто.
И я никогда не ставил цель кого-то шокировать.
Ярлык «помешанного на шок-факторе» вешали на меня и на мое творчество на протяжении всей моей писательской карьеры. Критики говорят, что я пишу «эксплуататорскую» прозу, что мои работы неприличны и оскорбительны. Критикам подавай ярлыки. Ярлыки создают комфортную иллюзию того, что во Вселенной существует порядок. Они заставляют многих чувствовать себя в безопасности в мире, где угрозы множатся с каждым днем.
Я никогда не ставил перед собой цель кого-либо шокировать, повторюсь. Все эти слова: «эксплуататор», «непристойный», «оскорбительный» — всего лишь слова. В этом мире нет порядка. Никто не в безопасности. Можете не смотреть во тьму — это не заставит тьму исчезнуть.
Что же нам тогда делать, если мы не можем изгнать ужас из существования?
Мой ответ всегда был один: войти во тьму. Поплавать в ней. Исследовать все ее ужасные глубины и подружиться с обитающими там существами. Я хочу обрести красоту в вещах, на которые больше никто не хочет смотреть. Я хочу найти точное место в зеркале, где мое отражение сливается с вещами, которых я больше всего боюсь. Хочу измерить масштабы страдания и выяснить температуру, при которой любовь превращается в ненависть.
То, что я описываю, — страстное, байроническое желание. Для него я не знаю подходящего термина. На него нельзя навесить исчерпывающий ярлык, поэтому люди выбирают более-менее простые альтернативы. Ярлыки — такие как «эксплуататорский», «непристойный» или «оскорбительный».
Ярлык не имеет значения. Все, что имеет значение, — то, что я найду там, во тьме. Конечно же, это пыльная работенка с неясными перспективами. Мир тьмы недружелюбен и холоден, берега там залиты кровью, а воздух заставляет глаза слезиться. Но и в таком мире реально найти сокровища — а также правду, если у вас на это хватит духу.
Ничто не заставляет свет сиять так ярко, как появление из темноты. Рассвет никогда так не радует, как по прошествии самой мрачной, беспросветно одинокой ночи.
Я проложил для тебя, Читатель, путь через ад. Света здесь очень мало, так что тебе нужно смотреть под ноги. Но в дороге ты, возможно, будешь удивлен тому, что найдешь.
Я знаю, что будешь. Поэтому я продолжаю писать.
Но вот мой совет — будь осторожен с зеркалами.
Они бывают необычайно остры.
Чендлер Моррисон
2023
Внутри я мертв

Посвящается Джеффу Берку
Смерть прекрасной женщины, вне всякого сомнения, является самой возвышенной темой на свете.
Эдгар Аллан По
1
Слишком уж теплые.
Переувлажненные.
Чересчур живые.
Вот такие, на мой взгляд, у нее были губы.
Она встает с изножья кровати, утирает их тыльной стороной ладони. Смотрит на меня с каким-то выражением, не поддающимся дешифровке. Впрочем, я всегда плохо угадываю, что у живых людей на уме. Но вряд ли у нее сейчас хорошее настроение.
— Извини, — говорю я, потому что вид у нее такой, будто я что-то должен сказать. — Что-то у меня не получается.
— Да я уж вижу, — отвечает она, выгибая бровь. В уголках ее рта проступают морщины. — Что с тобой не так? — Вся ее помада размазалась, и надо бы, наверное, ей об этом сказать, но тон ее голоса слишком брюзгливый, может, даже злой, и наблюдение мое пропало втуне.
— В каком смысле — не так? — спрашиваю я голосом более равнодушным, чем собирался спросить, но и с адекватной передачей эмоций у меня тоже, если честно, беда. Даже не знаю, что хочу передать сейчас. Она застегивает блузку, и все, о чем я думаю, — а на фига она вообще раздевалась? Та маленькая «услуга», которую она пыталась мне оказать, этого ведь нисколько не требовала. Это просто такая… показуха с ее стороны? Грудь у нее — с виду ничего, в том числе — ничего выдающегося. Да она ведь даже лифчик не сняла, и я ничего не увидел. Хотела меня завести? Вряд ли. Наверное, в этом был смысл эксперимента — посмотреть, изменится ли во мне хоть что-нибудь.
На самом деле вещи, как мне кажется, в принципе неизменны.
И я не желаю никаких перемен.
Ее предложение в моих глазах сошло за легкую оказию, по которой можно было кое-что проверить. Но всегда результат один. Выходит что-то странное, напряженное, неестественное. Все, чего я сейчас хотел, — чтобы она убралась подальше.
— У тебя даже не встал, — замечает она все тем же надломленно-ворчливым голосом. — Я этот леденец минут пятнадцать обрабатывала. Пятнадцать гребаных минут. И если он даже от такого не оттаял… господи.
Кажется, я ее задел. Поставил под вопрос ее профессионализм. В аду не сыщешь фурии страшней, чем оскорбленная профессионалка. Знала бы она, что за «леденец» потянула в рот. Знала бы, где он вообще бывал.
Видимо, снова пришла моя очередь говорить, раз она смотрит на меня и молчит.
— Ну, это… может, водички хочешь? — спросил я. Без особого желания нести ей стакан.
Она качает головой, закусывает губу, таращится на меня.
— И это все, что ты можешь сказать? Серьезно?
Ненавижу иметь дело с женщинами. Вечно им что-то не так.
Хотя чего уж там… ненавижу иметь дело с людьми. Вечно им что-то не так.
Прошу, не думайте, что я женоненавистник. Я всего лишь мизантроп.
— Хос-с-спади, — шипит она, повторяясь, подхватывает сумочку, пялится в телефон. — Не, знаешь, спасибо, что помог мне с биохимией в этом семестре. Я реально благодарна, знаешь. Но блин, были в моей жизни парни, сделавшие куда больше — и получившие гораздо меньше. Так что когда я предложила отполировать твою штучку просто за то, чтобы ты, мать твою, дал мне списать….
Ну, что-то она недооценивает мой вклад. Мы с ней делали вместе лабораторные — в том смысле, что я действительно что-то делал, я делал все, по сути, а она просто маячила где-то рядом и занималась своими никчемными делишками. Пустоголовая баба. И я даже не рассчитывал на какие-либо сексуальные услуги с ее стороны. Я все делал, потому что мне эти лабораторные были интересны. Назначили ее мне в пару — ладно. Ни хрена не делает — да и ради бога. Мне на нее было, если честно, плевать. Я просто хотел, чтобы мою работу оценили.
— …ты мог хотя бы притвориться, что тебе приятно. Я тебе все отлично оформила. Раз тебе не зашло, ты либо педик, либо… ну, короче, либо с тобой что-то не так!
Педик? Еще чего. Со мной что-то не так? Ну да, это почти что про меня. В самых общих словах как-то так и будет. Но я ненавижу общие слова, избегаю их по возможности. А что до ярлыков — лучше их на меня не вешать. Навесите — офигеете.
— …дрищ очкастый, мудак…
Это она так выражает недовольство мной. Вся красная от злости. Людей такие странные вещи порой выводят из себя. Драматизм — национальная американская черта и даже, сверх того, конвенциональная.
— Ты обдолбался, что ли? Что с тобой не так? Я как пришла — так с твоей морды постное выражение ни на секунду не сошло. Ты и на пары с тем же видом ходишь. Можно подумать, ты какой-то хренов зомби.
— Слушай, — говорю я, глядя на часы. Это абсолютно излишний жест, показуха — я ведь всегда в курсе, который час. Всегда. — Мне на работу пора. Будет неплохо, если ты пойдешь…
— Пол-одиннадцатого на дворе. Ночь, на хрен. Если хочешь, чтобы я убралась, мог бы и получше повод придумать.
— Ты про ночные смены слыхала? Я работаю охранником в благотворительной больнице Престона Дроуза. Рассказывал тебе про это по меньшей мере дюжину раз в этом семестре. — Я не уверен, правда это или нет, потому что избегал разговоров с этой идиоткой, насколько это было возможно, но в любом случае — какая разница. Мне действительно нужно на работу, а от запаха ее духов меня начинает подташнивать. Нет, не стоило мне во все это ввязываться. Об этом сексуальном эксперименте я всецело сожалею.
— Нет, ты точно придурок, — говорит она, перекидывая волосы через плечо и упирая руку в бедро, вероятно, не осознавая, насколько нелепо это заставляет ее выглядеть. Однако, если судить объективно и беспристрастно, вот смотрю я на нее — и понимаю, что она хорошенькая, по крайней мере, в общепринятом смысле, и большинство гетеросексуальных мужчин убили бы за то, чтобы она стояла на коленях в их спальне. И все же, все же... как-то много румянца на ее лице, слишком много света в ее глазах... и я чувствую исходящее от нее телесное тепло. Я представляю ее более холодной, бледной. Она могла бы быть почти идеальной, если бы не излучала всю эту бодрую жизненную силу. Нет на свете большей трагедии, чем напрасное расточение красоты.
— Да не смотри ты на меня так! Стремно становится!
Я от нее устал. Прикусив щеку изнутри, снимаю очки, протираю линзы краем рукава.
— По-моему, тебе пора, — говорю я ей.
Она еще немного постояла, потом что-то пробурчала себе под нос, развернулась на каблуках и промаршировала прочь. Слежу за ее ногами, удаляющимися из моей жизни, за движениями мускулистых, но все еще чуть податливых бедер, обметаемых подолом короткой юбочки. Мне так легко представить ее мышцы атрофированными и увядшими, а ее кожу — разрисованной фиолетовыми прожилками. Мне приятно думать, что когда-нибудь она станет холодна — плоть станет ледяной, белой и гладкой, точно мрамор.
Одеваясь на работу, я мечтаю о холодных поцелуях губ, за которыми язык черен, а зубы — сколоты и подернуты серым гнилостным налетом.
2
Ночью в госпитале тихо. Если судить о таких местах по фильмам и сериалам, можно подумать, будто здесь всегда кто-то бегает и что-то делается. Ну, либо это наглое искажение правды, фантазия или условность, на которую идут телевизионщики, чтобы нагнать остроты и драматизма, либо богадельня Престона Дроуза — аномалия, на которую общие госпитальные правила не распространяются. Не знаю. Да и не хочу знать. Все, что меня волнует, — тот факт, что с наступлением темноты больница понижает свой голос до приглушенного бормотания, пронизанного едва различимым писком безразличных мониторов жизнеобеспечения, какими-то шорохами и шепотками немногочисленного персонала, редкими ровными «вздохами» от систем искусственной вентиляции легких. Коридоры почти пусты — наткнуться можно разве что на медсестру, бдящую на посте, или на бредущего незнамо куда врача, хмуро смотрящего в планшет.
Люди редко ко мне обращаются. Может, все просто заняты. А может, все дело в том, что я всем всегда кажусь «нелюдимым» и «жутким». Даже уборщик, приятный и дружелюбный пенсионер, ветеран Вьетнама, которого тут все любят, избегает меня — будто вместо головы у меня осиное гнездо или что-то вроде того. С виду — пустое, но в любой момент из жерла, того и гляди, повалят неправильные пчелки. Злые и кусачие.
Повторюсь, мне по-фи-гу. Невидимка? Отлично! За три года работы в этом учреждении мои услуги ни разу не потребовались — ни сбежавших психически больных, ни взломщиков, ни чьей-либо подозрительной активности. Я сижу в тесной каморке охранника, читаю По и Буковски, время от времени проглядываю трансляции с камер. Ну и совершаю обходы здания — напрочь лишенные какой-либо непредсказуемости. Безопаснее рутины, кажется, попросту не придумаешь. Я — простая формальность, незначительная строка в списке общих расходов по содержанию больницы, призрак, незримо ходящий по коридорам.
И я, черт возьми, доволен таким положением. Безобидная привиденька, плавающая где-то за пределами поля зрения, вне всяческого восприятия, я свободно могу посвящать время своим достаточно необычным внеучебным занятиям.
Люди меня не видят, да и я их по-настоящему не замечаю.
И так оно лучше для всех.
3
У почти мертвых есть определенный запах. В слабой попытке социализации я однажды допустил промах, поделившись этим лакомым кусочком информации с однокурсником, — дело было, когда я проработал в больнице год или около того.
Разговор происходил на поэтическом семинаре, если мне не изменяет память, и коллегу моего явно зацепил — в неприятном смысле — довольно-таки невинный стишок, который был мною сочинен специально для собрания. Ничего особенного, так, пустячное на все сто десять процентов упражнение в рифме — любой на моем месте смог бы родить нечто подобное, при заданной-то теме:
СМЕРТЬ
Моя любимая одногруппница
лежит мертвая на диванчике
и больше не хмурится —
не кричит, не кривляется,
мне она больше так нравится.
Тучи сгущаются, белила мажутся,
помада стекает вниз красными полосами:
эх, не заляпаться бы
об это прекрасное
смерти спокойствие,
не выдать себя бы голосом.
Там что-то еще было, в таком же духе, еще где-то две строфы такой же длины, но мне, честное слово, лень вспоминать. После моего выступления, однако, все присутствующие чутка притихли. Особенно — тот бедный парень. Когда в последующем обсуждении я как бы походя прокомментировал запах, какой источают умирающие, он неловко поерзал на стуле, поковырял ноготь большого пальца и подал голос:
— Вот как?.. Эм… а как они, ну… пахнут?
Понятное дело, ему реальный ответ на этот вопрос на хрен не сдался. Он просто ко мне проявлял долю вежливости — на случай, если я какой-нибудь психопат, не терпящий в свой адрес никакой критики и карающий неуважение огненным мечом. Так или иначе, сворачивать разговор было поздно. Сделав мысленную пометку в будущем избегать подобных лихих тем в общении с обычными гражданами, я сказал:
— Они пахнут как... как своего рода ускользание, я думаю. Как что-то, что еще есть, но на твоих глазах исчезает. Как последние мгновения сна. Это очень… затхлый, застойный запах. — Я сделал паузу, но было видно, что бедняга морозится от моих слов все сильнее, — так почему бы не нанести финальный удар: — А знаешь, мне этот запах нравится. — Так я и сказал, взирая на него с холодком. — Не меньше, чем запах недавно умерших.
Пара особенно крутых девиц в группе одобрительно засвистела и показала мне большие пальцы. Какой-то несчастный толстый ублюдок с прической маргинала тоже, судя по всему, оценил мой ненамеренный гранж. А бедняга, которого чем-то напугала моя грошовая поэзия, ни с того ни с сего засобирался.
— Э-э, отличное стихотворение, да… приятно было послушать… увидимся через неделю, ребята… ага, ага…
Выходя за дверь, этот додик так дрожал, что чуть ли в собственных ногах не путался. Профессорша, ведшая семинар, проводила его взглядом, а затем уставилась на меня, подняв с любопытством бровь. Я в ответ просто пожал плечами.
Запах как запах.
Ускользающий, затхлый.
Сегодня я вновь вдохну его.
Он щекочет ноздри, когда я совершаю обход палат для выздоравливающих и гуляю по широкому коридору, засунув руки в карманы и насвистывая тихую мелодию (которую, думаю, мог бы насвистывать Мрачный Жнец, будь у него работа в больничке), — густой запах, почти зримым облаком выходящий из комнаты напротив кладовки. У дверного проема неприкаянно торчит ведро без швабры. Это наводит меня на предположение, что всеми любимый уборщик составляет компанию пациенту — уж этим он известен: показывает фокусы, рассказывает свои любимые непристойные анекдоты. Мастер на все руки не знает скуки. Туалет отскрести и от скуки спасти… это все ему по плечу. Ну а что вы хотели? Только лучшие из лучших получают работу в тридцать шестой по величине больнице в Огайо. Тут у нас настоящая сокровищница талантов.
Видите, даже у таких подонков, как я, может быть чувство юмора.
Это был юмор, верно? Типа сарказма? Я не знаю. Сами разберитесь, короче.
Когда я заглядываю в маленькую комнату, где восхитительно пахнет близкой смертью, уборщика-балагура нигде не видно. Бросив быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что никто не идет, я проскальзываю внутрь и смотрю на человека, лежащего на узкой кровати, на аккуратно заправленных накрахмаленных белых простынях. Такого неподвижного, полного покоя. То, что это женщина, можно понять лишь по хрупкому телосложению и выпуклостям — не особенно-то большим — грудей под бледно-голубым больничным халатом. Вся ее голова, за исключением подбитого левого глаза, окутана марлей в горошек с узором из темно-алых кровоизлияний. Правая рука закована в гипс, левая — ампутирована по локоть. Я смотрю на ее карту, прикрепленную к планшету, свисающему с края кровати на веревочке. Эбигейл М., двадцать восемь лет. Несчастный случай — выпала из прогулочного катера, сильно ударилась о борт, угодила под винты. Обильное внутреннее кровотечение, кровоизлияние в мозг, более тридцати переломов костей и несколько перерезанных витальных артерий. Операция была проведена менее трех часов назад, и, если судить по запаху смерти, она прошла не вполне успешно.
Следя за показателями жизнедеятельности, которые на данный момент стабильны, я ей говорю приглушенным тоном:
— Винты прогулочного катера… знаешь, не часто слышишь о таких вещах. Полагаю, это поинтереснее будет, чем автокатастрофа или сердечный приступ.
Она не шевелится, и ее единственный видимый глаз остается крепко закрытым.
— Держу пари, ты выглядишь кошмарно под всеми этими бинтами, — шепчу я, пытаясь это себе вообразить. — Как будто кто-то вмазал тебе по лицу газонокосилкой. — Я прикасаюсь к ее шее кончиками пальцев, улавливая слабый пульс. Ее плоть все еще слишком теплая. — Холод уже близок, подруга. И даже с твоим испорченным личиком — особенно с твоим испорченным личиком — ты все равно будешь прекрасна для меня.
Я чувствую себя хорошо, спускаясь на лифте обратно в вестибюль. Обычно я просто иду в морг и смотрю, что смогу найти, полагаясь на удачу, но время от времени я сталкиваюсь с этим запахом, и я знаю, что меня ждет. Эбигейл М. скоро успокоится, почти наверняка до моей следующей смены. Конечно, это будет великой и ужасной трагедией для друзей, семьи и всех остальных… но, эй, у меня тоже есть потребности.
Так вот, не обольщайтесь, у меня нет мании здравомыслия; я считаю себя чрезвычайно умным и вопиюще начитанным, и любой, у кого есть хотя бы половина функционирующего интеллекта, понял бы, что человек с моими наклонностями несколько чокнут. Самосознание в действительности ни хрена не значит, впрочем — на деле оно немногим более ценно, чем простая дрочка, и имеет примерно такую же удельную ценность, как комок спермы в использованной салфетке. Ни один таракан никогда не желал не быть тараканом только потому, что знал, что он — таракан.
Кроме того, есть вещи гораздо хуже, которыми я тоже мог бы заниматься; я был бы готов поставить разумную сумму денег на гипотезу, что некоторые из моих сокурсников больше дичи вытворяют в пятницу вечером, чем я сам когда-либо вытворю за всю свою маленькую жизнь. Чувство вины на самом деле не учитывается в этом конкретно взятом жизненном уравнении.
Прежде чем вернуться в тихое уединение своего поста в комнате охраны, я выхожу наружу под навес главного входа и закуриваю «Лаки Страйк». Вдыхаю сладкий летний воздух вместе с восхитительно токсичным облаком канцерогенных загрязняющих веществ, смотрю на почти пустую парковку и думаю об Эбигейл М., двадцати восьми лет, угодившей под винты катера. Ее голова завернута, будто рождественский подарок, который с таким же успехом мог бы быть адресован вашему покорному слуге. Я улыбаюсь, выпуская дым из легких в теплую июльскую ночь.
Мысленно я уже снимаю бинты.
В этом году Рождество для меня наступит раньше.
4
Я все еще думаю об этом, совершая свой обход следующим вечером. У меня кружится голова от предвкушения, которое какой-нибудь обычный организм мужского пола испытывал бы к такой традиционно привлекательной девушке, как моя партнерша по лабораторным — если бы та ясно дала понять, как намерена выразить свою благодарность. Эбигейл М. больше нет в той палате, ранее этим вечером я ее проверил — место заняла старушенция, на которую напала собака. И так как я очень сомневаюсь, что ее выписали отсюда с рецептом на обезболивающие и напутствием «побольше пейте, поменьше волнуйтесь», думаю, резонно предположить, что Эбби уже перевезли в подвальную секцию. То есть в морг.
Последнее помещение, куда я заглядываю на обходе, прежде чем отправиться в страну недавно умерших, — родильное отделение. Ирония подобного расклада не ускользает от меня. Я, само собой разумеется, терпеть не могу новорожденных. Есть что-то в создании жизни, что не на шутку выводит меня из себя, не говоря уж о том факте, что всякий младенец — потешное и ни к чему не пригодное существо. Все, что младенцы делают, — едят, срут, плачут и спят. Не подумайте, я по натуре не склонен к насилию, но ничто так не подталкивает меня к мысли об убийстве, как плачущий младенец. Однажды я высказал свою ненависть к младенцам одному из многих психиатров, к которым меня водила моя мать, и он кивнул, что-то записал и сказал: «Да, да, ага. Задумывался ли ты о том, что младенцы — все еще люди, просто меньшего размера и менее развитые? Скажи мне, в каком возрасте люди перестают быть такими отвратительными в твоих глазах?»
Они не перестают, сказал я. Люди, по мне, и впрямь кошмарны — я почти ни с кем из них не могу найти общий язык. Но взрослые хотя бы не справляют нужду под себя и не орут благим матом, когда не получают то, что хотят (нет, бывают, конечно, и взрослые такого же склада, но я об условно нормальных людях). Сам я не спортсмен, даже близко спортом не интересуюсь, но скажите-ка на милость: неужто я — единственный, кто понимает, что младенец и мяч — это вещи взаимозаменяемые? Будь футбольные мячи орущими говнюками, я в старшей школе куда лучше справлялся бы на уроках физры.
5
Мои руки, вытянутые по швам, мелко дрожат, когда я стою и смотрю вниз на накрытый простыней труп на серебристом металлическом поддоне. Бледные ступни с именной биркой торчат из-под ткани, ногти на ногах успели сексуально пожелтеть. Я провожу кончиками своих дрожащих пальцев вверх и вниз по подошвам ее ног — кожа грубая и твердая, как на мозоли.
Не отрывая глаз от скрытой фигуры передо мной, я обхожу край стола, чтобы встать у его изголовья, страстно желая откинуть простыню, но сдерживаясь, заставляя мышцы напрягаться от предвкушения. Я хочу насладиться моментом. Убойно скучный минет от той девки пробудил вожделение в моих чреслах, и
