автордың кітабын онлайн тегін оқу Ураган
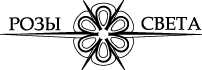

Arif Anwar
THE STORM
Copyright © 2018 by Arif Anwar
All rights reserved
Перевод с английского Никиты Вуля
Серийное оформление и оформление обложки Татьяны Гамзиной-Бахтий
Ураган : роман / Ариф Анвар ; пер. с англ. Н. Вуля. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2025. — (Розы света).
ISBN 978-5-389-28192-9
16+
Шахрияр, недавний аспирант и отец девятилетней Анны, должен по истечении срока визы покинуть США и вернуться в Бангладеш. В последние недели, проведенные вместе, отец рассказывает дочери историю своей страны, переплетая ее семейными преданиями. Перед глазами девочки оживают картины: трагедия рыбацкой деревушки на берегу Бенгальского залива, сметенной с лица земли ураганом ужасающей силы… судьба японского летчика, чей самолет был сбит в тех местах во время Второй мировой… и отчаяние семейной пары из Калькутты, которой пришлось, бросив все, бежать в Восточный Пакистан после раздела Индии... Жизнь порой тоже напоминает ураган, в безумном вихре кружащий человеческие судьбы, — выжить в нем поможет лишь любовь, семья и забота о будущем детей.
© Н. А. Вуль, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус», 2025
Издательство Иностранка®
Посвящается моему отцу
за все те книги, что он мне покупал
И вновь порывы с моря налетели,
На дом, где безмятежно в колыбели
Спит дочь моя.
Давно брожу, а ветер не стихает,
Я слышу, как он в башне завывает.
Молюсь за дочь, и чудится мне вскоре:
Грядущих лет выходит строй
Под дикий барабанный бой
Из смертоносной девственности моря [1].Уильям Батлер Йейтс.
Молитва о дочери
[1] Перевод Ю. Мениса
Книга первая
Приближение бури
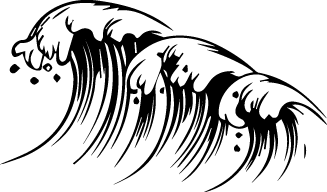
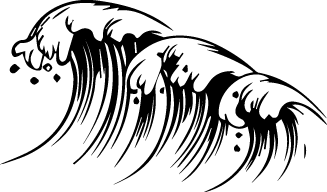
Хонуфа
Читтагонг,
Восточная Бенгалия (Бангладеш),
ноябрь 1970 года
В его грезах ее глаза всегда зеленого цвета. Цвета кузнечиков, изумрудов и сочной листвы. Иногда они приобретают темноватый оттенок нефрита.
И это притом что он прекрасно знает, что глаза Хонуфы серые, как мех у кошек, как затянутое тучами небо. Как волнующееся море.
***
Сегодня она заспалась. Ее будит отблеск зари и рокот волн. Она открывает серые глаза и окидывает взглядом хижину, земляной пол которой тронули первые лучи ноябрьского солнца, поднимающегося над морем.
Хонуфа садится в постели. На подоконнике — ворон. Переливаются угольно-черные крылья. Изогнутый клюв полуоткрыт, словно птица вот-вот каркнет. Ворон не сводит с Хонуфы глаз цвета оникса.
Хонуфа встает, но птица не двигается с места. Женщина настороженно смотрит на ворона и начинает медленно приближаться к нему, выверяя каждый шаг.
Только когда она протягивает к нему руку и до птицы остаются считаные сантиметры, ворон срывается с места и улетает, оставляя в хижине отзвук хлопающих крыльев.
Да, всё это суеверия, однако, совсем как ребенок, она сплевывает, силясь унять бешено колотящееся сердце. Ее охватывает ощущение надвигающейся беды, подкрадывающейся голодным хищным зверем.
Ее лежанку сколотил еще отец и преподнес ей в дар много лет назад, когда она вышла замуж за Джамира. Сейчас на ней спит ее трехлетний сын. Какой же он славный! Ему снятся сладкие сны. Место, на котором обычно лежит Джамир, пустует. Ее муж впервые ушел в море не попрощавшись. Его путь лежал в самое сердце залива. И сколько же его теперь ждать?
Она умывается водой из глиняного сосуда и принимается за работу по дому. Решает начать со стирки. За свою замужнюю жизнь Хонуфа никогда не позволяла копиться грязному белью. Затем она швыряет на улицу оставшиеся со вчерашнего дня рыбьи кости — пусть ими полакомится вечно сонная кошка, часто наведывающаяся к ним в хижину, — а потом отправляется за хворостом: обломанные ветви деревьев, густо покрывают землю окрестных лесов. Придя на берег темноводного пруда, напоминающего глаз ворона, наблюдавшего за ней сегодня утром, она принимается рвать листья одуванчиков на обед.
Всё это Хонуфа проделывает прежде, чем предрассветная полумгла сменится утром и бледный свет, заливающий мир, уступит сперва рыжему, а потом уже ослепительно белому солнечному свету.
Сын начинает ворочаться в постели. Взвалив на себя хворост, перехваченный джутовой веревкой, Хонуфа возвращается домой.
Тридцать лет тяжелых трудов лишили черты ее лица былой девичьей мягкости, расчертив область вокруг глаз морщинами. Губы сделались тоньше, в результате чего ее челюсть приобрела квадратную форму, как у мужчины, — отнюдь не идеал женской красоты по бенгальским меркам. Нет, красавицей Хонуфу не назвать, но она сильная, а роста в ней — метр шестьдесят пять. Она выше всех женщин в прибрежной деревушке, которую считает своим домом. Плечи широкие, а руки грубые — они помнят мириады веревок и рыбацких сетей, которые прошли через них за многие годы, груды кокосов, которые им довелось вскрыть.
Прикинув время по длине тени и высоте, на которую поднялось солнце, Хонуфа приходит к выводу, что ей пора к деревенскому колодцу набрать воды. Она давно уже оставила всякую надежду, что когда-нибудь ей это удастся проделать в одиночестве. Поначалу, в первые годы, она рассчитывала, что со временем свыкнется с бременем пристального внимания односельчан, а боль от жалящего осуждения сойдет на нет. Как же она ошибалась!
По дороге ей приходится остановиться. В этот час на пляже должно царить безлюдье, однако он буквально бурлит жизнью. Там собралась вся деревня. Песок истоптан, изрыт сотнями ног. Жилистые мужчины и женщины с выдубленной солнцем кожей тащат лодки подальше от кромки воды, привязывают их веревками к деревьям, плетут и затягивают тугие узлы, после чего спешат обратно к берегу, чтобы убрать и сложить сети. Детвора волочет рыбу, пойманную в цилиндрической формы вершу. Все при деле, все трудятся, вне зависимости от пола, возраста и крепости телосложения.
Приближается буря.
Хонуфа крутит головой: смотрит на восток, потом на запад, затем на юг — основные направления, откуда может нагрянуть шторм, но не замечает ничего подозрительного. Кончики пальмовых листьев, которыми крыты хижины, остаются недвижимы, а на небе ярко светит солнце. И всё же в деревне царит суета.
Хонуфа окидывает толпу работающих односельчан внимательным взглядом в поисках дружелюбного лица. Да ладно дружелюбного, сойдет хотя бы тот, кто просто не отвернется.
Ей удается разглядеть Рину среди группы женщин, убирающих сети. Рина трудится над особенно длинной сетью, ловко сворачивая ее. Каждое ее движение выверено многолетней практикой. Хонуфа берется с другого конца, силясь в точности повторять действия Рины, которая ее постарше. Наконец сеть свернута.
— Шторм?
Рина кивает в ответ. На фоне Хонуфы она выглядит жилистой и даже тщедушной, напоминая ломтик вяленого мяса, высушенного солнцем.
— Откуда узнали?
— Утром видели Лодочника.
Хонуфа выпускает сеть из рук.
***
Она кидается домой. Это не первый шторм, к которому ей придется готовиться. Что поделать, такова жизнь, если решил поселиться у залива. Пока ее сын, который уже успел проснуться, забавляется тем, что гоняет по двору кур, Хонуфа поправляет на себе сари и принимается за работу.
Список дел не особо длинный, и женщина прекрасно знает, где что лежит. Она расправляет на полу одну из двух расшитых простыней. На нее она ставит кухонные принадлежности — боти [2] для нарезки (лезвие обернуто тканью) и нора [3] для измельчения продуктов, а также горшки со сковородками, на которых готовит рис, чечевицу, рыбу и шпинат. На вторую простыню она складывает постельные принадлежности и одежду, которая еще не успела просохнуть после утренней стирки. В мешок из грубой джутовой ткани отправляются вяленые продукты.
Она выходит во двор. Куры у нее настоящие красавицы, ну прямо загляденье. Одна черная в белую крапинку, а другая огненно-рыжего оттенка. Красотой дело не ограничивается: они обе несутся, регулярно откладывая яйца где-нибудь в укромном уголке их дома. Поиск яиц всякий раз оказывается настоящим приключением для ее сына, неизменно заканчивающимся тем, что он торжествующе приносит ей яйца — скорлупа у них всё еще мягкая и хранящая тепло несушки.
Хонуфа смотрит на кур и вздыхает. Ее сын любит их, и потому ей непросто совершить то, что предстоит.
Женщина берет нож и начинает его точить.
***
Приходит Рина. Она застает Хонуфу копающей яму. Женщина уже успела вырыть ее до пояса. Гостья берет из коровника вторую лопату и присоединяется к работе. Некоторое время они трудятся, не говоря ни слова. Яма быстро растет.
Наконец они останавливаются. Несколько мгновений они стоят рядом, тяжело дыша, истекая потом, с довольным видом разглядывая результат своих усилий.
— Ты и вправду считаешь, что будет буря?
— Лодочник пока ни разу не ошибался.
За последнюю четверть века трижды люди видели одинокого лодочника, пересекавшего залив под черными парусами. Он неизменно направлялся на юг, обратившись спиной к стоявшим на берегу или на скалистых зеленых холмах.
Всякий раз за его появлением следовала страшная буря.
— Как думаешь, кто это такой?
Рина многозначительно смотрит на нее.
— Ну, люди разное говорят. Одно знаю точно: под этими черными парусами явно ходит не человек.
Хонуфа чувствует, как от волнения по телу бежит холодок. Жуть какая. И при этом как волнующе!
— Сын где? — спрашивает Рина.
— В доме. Устроил истерику, как узнал, что надо сделать.
— Что ж, он у тебя постепенно становится мужчиной.
Хонуфа улыбается. В маленьком сыне она видит скорее тихую силу и кротость супруга, нежели свой вспыльчивый нрав и несгибаемую волю. Может, оно и к лучшему.
У ее сына великолепное имя. Она позаимствовала его из книги, которую заминдар [4] когда-то ей читал. В ней одна история причудливо встраивалась в другую, словно отражения двух зеркал, установленных напротив друг друга, — причудливый лабиринт, в котором так легко безнадежно затеряться.
Женщины спихивают в яму тюки. В тюках, помимо всего прочего, тушки двух куриц, уже ощипанные и уложенные в глиняные горшки. Затем они засыпают яму, а когда дело сделано, втыкают в центр палку, чтобы не потерять место. В завершение они утрамбовывают землю, прихлопывая ее лопатами.
Хонуфа приглашает Рину в опустевший дом. Сын хозяйки сидит на голой постели, на чумазом личике — дорожки, которые проделали слезы. Он кидается к Рине, которая подхватывает его на руки, подкидывает и прижимает к себе.
— Это кто у нас тут плачет? — спрашивает Рина, щекоча мальчика.
— Она кур зарезала, — он обвиняюще показывает на мать пальцем.
— А ты с ними дружил, так? Если б она их не зарезала, их бы всё равно унесла буря, и ты бы их больше никогда не увидел.
Пока Рина возится с ребенком, Хонуфа направляется к дальней стене хижины, ругая себя на чем свет стоит за то, что только сейчас вспомнила о столь важной вещи. Она встает на цыпочки, вслепую шарит рукой, ощупывая то место, где должно лежать письмо, но его там нет. Чувствуя, как бешено заходится сердце, женщина, фыркая от пыли, пододвигает к стене кровать, оставляя царапины на земляном полу. Встав на нее, Хонуфа смотрит. Письмо пропало. Письмо, которое она больше двух месяцев назад со всей осторожностью, в обстановке строгой секретности положила сюда, на самый верх, письмо, сохранность которого она, словно безумная, проверяла всякий раз, когда ее муж отлучался из дома. Это письмо куда-то исчезло.
Она спускается с кровати и замечает, что на нее таращится Рина.
— Да что с тобой?
Хонуфа бледна как смерть, горло сводит. Ей удается соврать:
— Золотые сережки. Подарок матери Джамира. Исчезли.
— Ох, это плохо, девочка.
Ей остается только кивнуть. В голове каша. Она думает о Джамире: его корабль — крошечная щепочка в безбрежном океане. Сколько он рассказывал ей всяких баек о море, об уловах, о пьяных драках матросов, о бескрайних водных просторах, где нет ничего — лишь солнце, играющее на волнах… Она слушала и жалела, что не родилась мужчиной, свободным от бремени домоседства. Сейчас как раз настал один из таких моментов.
Однажды он повез ее с собой купить красивое ожерелье из раковин и камушков. Тот день выдался на редкость ветреным, но лодка шла ровно — ее удерживал их вес и вес мешков с песком. «Это балласт, — улыбнулся Джамир, волосы которого трепал ветер. — Благодаря балласту нам ничего не угрожает».
Муж с сыном играли в ее жизни схожую роль. Если они с ней, никакому урагану не под силу перевернуть лодку.
Она садится рядом с Риной.
— Я за него переживаю.
— Почему? Он ведь не первый раз уходит в море. Он на траулере, а они знаешь какие большие? Это тебе не какое-то там корыто, которое, стоит дунуть ветру, уже идет ко дну. У них на борту есть радио. Да они, скорее всего, узнали о шторме еще прежде нашего. Мы тут языками треплем, а они уже к нам обратно идут.
Хонуфа качает головой. Рина ничего не понимает. Да и как она может что-то понимать? Опасность, заключенная в письме, которое у Джамира, куда грознее любого шторма.
— Не обращай внимания, — машет Хонуфа рукой. — Так, глупости всякие говорю. Сколько у нас осталось времени?
— Судя по всему, несколько часов. Заминдар обещал дать людям укрыться у себя в доме. Рахим хороший человек.
— Хороший, — соглашается Хонуфа, не спеша добавить к этому что-то еще. Ей вспоминаются дни, которые она в детстве проводила в особняке заминдара. Она училась читать по буквам, а жена Рахима поила ее чаем со сладким печеньем. Буквы вскоре стали складываться в слова, слова в предложения, и вот Хонуфа уже бегло читала страницами, главами и целыми книгами. Заминдар однажды признался: он никогда не думал, что ребенок способен так быстро научиться читать.
— Извини, порой я забываю, что вы с ним не ладите, — морщится Рина.
— Он богатый помещик. Мы — бедные рыбаки. Если между нами и была когда-то дружба, то она, скорее, напоминала сон. Рано или поздно каждому приходится проснуться.
Рина фыркает, обводит взглядом хижину, хмурит брови.
— Ну что, Хонуфа, с подготовкой покончено? Готова к шторму?
— Осталось только сходить за козой. Она еще пасется среди холмов. Я ждала, пока ты придешь. Хотела попросить присмотреть за сыном.
— Ладно, пригляжу за ним. Только смотри, девочка, времени у тебя мало. А что, если ты припозднишься?
— Если меня долго не будет, отведешь моего сына к Рахиму?
Рина задумалась над тем, что кроется за вопросом женщины:
— А ты?
— Я вас сама отыщу. Укройтесь с остальными. Когда приходит ураган, надо забывать о былых обидах.
— Рахим — добрый человек. Подумай, Хонуфа, сколько лет прошло. Ну отчего бы не помириться с ним? Это не так сложно, как ты думаешь.
— Слишком поздно, — качает головой Хонуфа, размышляя о пропавшем письме. Решение много лет назад приняла именно она, и что теперь? Прошедшие годы и обстоятельства безнадежно развели их пути-дороги — ее и Рахима.
Рина неодобрительно смотрит на нее:
— Тебе, конечно, виднее, но и тебе, и мужу с сыном будет лучше, если у вас в деревне кроме меня будут еще и другие друзья.
Хонуфа кивает, удаляется в угол хижины и возвращается с узелком, который не стала прятать:
— Если так получится, что тебе придется отправиться к заминдару без меня, возьми это с собой.
Рина берет в руки узелок, чтобы понять, сколько в нем веса.
— Что это? — спрашивает она.
Хонуфа сперва колеблется, а потом всё же развязывает узелок. Внутри — две вещи. Такого Рина никогда прежде не видела. Ее глаза расширяются, она смотрит на Хонуфу, и та вздыхает:
— Вот как снова свидимся, так я тебе всё и объясню.
***
Несколько минут спустя она уже карабкается по покрытому лесом склону холма, продираясь через густой кустарник. Поднимается легкий ветерок. В ноздри бьет густой влажный аромат лесной чащобы. Отовсюду доносятся шорохи снующего зверья, сверху слышатся крики кружащихся в поднебесье коршунов. Ветки бьют ее по лицу. Хонуфа идет по узкой тропинке, напоминающей прядь волос индианки. Земля оттенка киновари, как краска, которой женщины окрашивают волосы в знак того, что вступили в брак. Сложись судьба Хонуфы иначе, и ее волосы были бы такими.
За час она добирается до вершины. Коза ровно там, где она оставила ее накануне, — привязана веревкой к глубоко вбитому колу. Глаза с вытянутыми зрачками наградили женщину внимательным взглядом, и животное снова принимается жевать траву.
Натужно охнув, Хонуфа с трудом выдергивает кол из земли, отвязывает козу и хлопает ее по крупу. Коза, заблеяв, ковыляет прочь. Она знает дорогу до дома, да и при спуске по крутому склону чувствует себя уверенней, чем женщина.
Хонуфа уже собирается тронуться следом, но замирает, чтобы взглянуть на небо. Оно ясное, за исключением нескольких перистых облаков, напоминающих побеги дикого сахарного тростника. На горизонте медленно, неспешно тоже плывут облака.
А что, если на этот раз Лодочник ошибся?
Она направляется к близлежащей поляне в кольце сосен. В середине — неприметная продолговатая могилка, огороженная бамбуковыми палками, которые уже успели истлеть на морском воздухе.
За исключением ветра, свистящего среди ветвей, стоит гробовая тишина. Хонуфа замирает. Как всегда, ее переполняют эмоции. Чувствуя себя чужаком, она черпает силу, упиваясь красотой окружающего мира.
«Восемнадцать лет. Сейчас ты был бы уже совсем взрослым, сынок».
С момента ее последнего визита на могиле успели вырасти лилии. Сейчас они подрагивают и качаются на ветру. Хонуфа как можно аккуратнее срывает три цветка и тихо прощается с сыном.
Неподалеку от могилы находится заброшенный храм. Он уже порос молодыми деревцами бодхи, вздымающимися над ним словно рога, их корни цепляются за осыпающиеся камни святилища.
Хонуфа замирает перед входом. В ее руках цветы — для подношения. Мрак внутри храма будто живой. Он манит ее. Слышится, как в темноте снуют попискивающие мыши. Хонуфа знает, кто ждет ее в храме.
Женщина переминается с ноги на ногу на пороге святилища, собираясь с духом. Она отдает себе отчет в том, что сейчас ей предстоит предать свою веру. Прежде чем войти, Хонуфа закрывает глаза и прижимает ладонь к прохладной, сулящей покой стене храма.
Стоит Хонуфе войти, как она тут же погружается в безбрежный мрак и тишину, над которыми, кажется, не властно само время. Она снова замирает и ждет, когда ее глаза привыкнут к темноте. Пол холодит огрубевшую мозолистую кожу ступней.
Зал десять шагов в поперечнике. На дальнем его конце, залитая светом, проникающим сквозь многочисленные дыры в крыше, — женщина дикой, невероятной красоты: высокая, синекожая, в ожерелье из черепов и юбке из отрубленных человеческих конечностей. Высунутый язык свисает ниже подбородка и указывает кончиком на сраженного демона у ее ног.
Хонуфа встает на колени перед Кали. Черной. Пребывающей вне времени. Разрушительницей.
Она кладет перед богиней свое подношение — цветы, которые принесла. Женщина молится ей, не обращая внимания на внутренний голос, который напоминает, что ее новый бог ревнив и то, что она сейчас делает — ширк, — один из самых страшных грехов в исламе. Она поклоняется не Аллаху, а другой высшей силе. Однако Хонуфа ничего с собой не может поделать. Сейчас она словно дитя, охваченное жаром лихорадки, которое инстинктивно тянется к матери.
Когда она была маленькой, отец поведал ей историю богини, которую ему, в свою очередь, открыл жрец-брамин. Легенда ее настолько заворожила, что Хонуфа потом без конца донимала отца просьбами рассказать ее снова и снова. Несмотря на то что уже прошло много лет с тех пор, как Хонуфа рассталась с семьей, она всё равно слово в слово помнила предание.
Давным-давно все триста тридцать миллионов богов и богинь трепетали перед вторгшейся армией демонов под командованием Рактавиджи. Каждая капля крови из ран Рактавиджи, падая на землю, превращалась в такого же демона, как он. Чтобы сразиться с армией демонов, боги призвали на помощь богиню Дургу, которая убила многих врагов. Однако, когда дело дошло до схватки с Рактавиджей, с каждом ударом ее копья из его ран брызгали струи крови, которые, попадая на землю, обращались в новых демонов, покуда в конце концов на поле боя не сделалось больше врагов, чем в самом начале битвы. Ярость Дурги была столь сильна, что из ее лба родилось воплощение ее гнева.
Кали.
Армия демонов затрепетала перед яростным напором Кали, в каждой из четырех рук которой сверкало по мечу. Вскоре от войска демонов осталась лишь десятая часть. Когда же дошло дело до поединка между Кали и Рактавиджей и богиня нанесла повелителю демонов рану, она раскрыла рот и поймала им струю крови, прежде чем та успела коснуться земли. Удар следовал за ударом. Наконец Рактавиджа настолько ослаб, что Кали накинулась на него, впилась в демона зубами и высосала всю его кровь досуха.
Опьянев от крови, Кали, торжествуя победу, издала рев, от которого содрогнулись небеса, и пустилась в пляс, сея разрушение. Танец ее потряс основы вселенной. Прочие боги и богини так устрашились ее, что обратились к ее супругу Шиве. Только зрелище мужа, распростертого у ее ног, помогло унять безумие Кали.
Хонуфа закрывает глаза и молится — не за себя, а за мужа, Джамира, и сыновей — за живого и за мертвого. Молится, покуда не меркнет белый свет.
Когда Хонуфа открывает глаза, она не имеет ни малейшего представления о том, сколько времени прошло, однако стоит ей выйти из храма, как она понимает — беда. Снаружи почти так же темно, как и внутри. Птицы умолкли. Легкий ветерок стих, и наступило тягостное безмолвие.
Она кидает взгляд на горизонт и ахает. Свинцово-серые тучи надвигаются на берег. Они словно бегут по морю, перебирая лилово-белыми всполохами ног-молний.
Проклиная себя за глупость — ну как можно было настолько задержаться в храме, — Хонуфа, отчаянно желая поспеть к сыну и Рине до урагана, спешит вниз по склону холма, поглядывая на небо, где собираются клубящиеся башни облаков цвета пепла и рухнувших надежд.
Мир вокруг нее словно выцветает, становясь монохромным. Поднимается ветер, несущий в себе горькие воспоминания о нехоженых землях, скованных стужей и льдом. Его порывы приносят первые капли дождя.
Ей удается добраться до долины. Хонуфа вся исцарапана ветками, преграждавшими ее путь, а ноги разбиты в кровь. Она уже рядом с домом — там, где земля холма смыкается с прибрежным песком. Она оборачивает сари потуже вокруг пояса и бегом устремляется к пенящемуся морю.
Она спотыкается, запнувшись ногой о барсучью нору. Падает. Земля устремляется навстречу ее лицу. Она ударяется головой о камень, и одновременно с этим дикая боль молнией пронзает ее лодыжку.
На мгновение, которое растягивается в целую вечность, она оказывается в стране грез.
Ей кажется,
Что она снова маленькая девочка,
Идет среди рисовых полей за водой,
В руках ведро,
Ей семь лет.
Раздается звук. Сперва он еле слышен. Жужжание сменяется гудением, а потом уже и гулом столь громким, что он наполняет ей не только уши, но и глаза и рот. Хонуфа истошно кричит, зовя отца, мать, брата, но звук поглощает без следа ее слова. Над головой — стальная птица. Ее серебристое брюхо сверкает так, словно она проглотила яркую звезду. На боку — красное солнце на белом поле.
Хонуфа распахивает рот, чтобы издать крик, но тут небо взрывается буйством красок.
Бабочки,
Они падают,
Падают и падают,
На ее лицо.
И тут она видит, что они из бумаги.
Струи дождя, бьющие в лицо, возвращают Хонуфу в реальный мир. В нем темно, как ночью, в нем заходится криком ветер, поднимающий в воздух песок, который режет словно кинжал. Женщина извлекает из норы ногу, касается лба и обнаруживает на нем болезненную шишку. Ей едва удается сдержать крик, когда она переносит вес на быстро опухающую лодыжку. В отчаянии Хонуфа смотрит по сторонам в поисках сука или палки, из которых можно было бы сделать костыль.
Хонуфа принимается думать над дилеммой, которая возникла перед ней из-за травмы. Она ясно сказала Рине, чтобы та вела сына в дом заминдара, если она, Хонуфа, не придет вовремя. И где сейчас Рина? Уже на месте или по-прежнему дожидается ее в хижине? Идти домой, а оттуда к заминдару? На это сейчас нет ни сил, ни времени. Ее хижина — в одной стороне, особняк заминдара — в противоположной. Если она сперва отправится к себе и, добравшись до цели, выяснит, что Рина уже ушла с ее сыном, то ей, Хонуфе, конец. Если же она пойдет к заминдару, оставив Рину с сыном дожидаться ее, — тогда конец уже им.
Штормовые тучи вбивают в пляж серебряные гвозди молний, ослепляя ими Хонуфу. Прибой бьется о берег, как взбесившаяся лошадь. Капли дождя ударяют с такой силой, словно хотят оставить на ее теле синяки.
Земля, словно на заре мироздания, издает низкий звериный стон. Шторм истирает из этого мира память о Боге.
Хонуфа снова и снова выкрикивает имя сына. Ей никто не отвечает, и тогда она принимает решение.
[3] Нора — в Бенгалии доска с толкушкой для измельчения продуктов.
[4] Заминдар — помещик, землевладелец, получатель земельной ренты в Индии и Пакистане.
[2] Боти — бенгальский кухонный нож, используемый для резки рыбы, овощей и фруктов. Представляет собой серповидное лезвие, вертикально установленное на деревянном основании.
Шахрияр и Анна
Вашингтон, США,
август 2004 года
Они ехали по трассе I-66, держа путь в Маклин, домой к Анне. Всего пятнадцать минут назад автомобили и грузовики сливались в жарком мареве уходящего дня в единый сплошной поток. Сейчас, оглянувшись назад, он видит собирающиеся тучи, сулящие перемену погоды.
Всякий раз, когда приходит буря, Шар испытывает странный восторг. Она напоминает ему несущийся на всех парах грузовой состав с цистернами, наполненными водой. Его ярость навевает мужчине воспоминания о родных краях. Первые тяжелые пузатые капли ударяются в лобовое стекло и принимаются настойчиво отбивать ритм по крыше машины. Дворники мечутся туда-сюда по стеклу, силясь дать отпор многомиллионной армии. Габаритные огни движущихся впереди автомобилей расплываются, будто на холсте импрессиониста. Мир словно тает.
Анна устроилась на заднем сиденье автомобиля, который он взял сегодня утром, чтобы свозить ее на ярмарку в Гейтерсберге. Она сосредоточенно играет на приставке.
— Ну и погодка, Анна, верно я говорю?
Девочка не отвечает ему, и он повторяет фразу снова.
— Ну да, типа того, — на этот раз отзывается она. — У вас в Бангладеш такие же сильные дожди?
— Ага. Иногда они не стихают на протяжении многих дней. У нас даже есть особое время года — сезон штормов. Каль Байсакхи — Темная весна.
Ему на ум приходят картинки из детства — те, что он помнит: как он смотрит телевизор, как поет гимн перед программой новостей на бенгальском в восемь часов, а потом снова, в десять, когда новости выходят на английском. Экран мог погаснуть в любой момент без всякого предупреждения — всякий раз, когда случался перепад напряжения. В этом случае Рахим, Захира и Рина блуждали в темноте, спотыкаясь и перекрикиваясь друг с другом, пока кто-нибудь из них не отыскивал длинные тонкие свечи, которые обычно хранились в ящике на кухне. Тогда их зажигали от огня газовой плиты и отправлялись на улицу, навстречу миру, залитому светом луны и звезд.
Он помнил в Дакке два больших наводнения, когда по улицам плавали на лодках, а вода поднялась до половины высоты их дома. Дом. Он помнил, как просыпался в этом особняке под резкие крики воронов, которых ему так не хватало в Америке. В ноздри бил запах жарящихся лепешек. Чай со сладким печеньем ему подавали на подносе, а железные оконные рамы были влажными от зимнего тумана. Еще он помнил летающих тараканов. Здоровенных мотыльков, которые хлопали крыльями, кружась вокруг фонарей. Ребенком он с радостью выбегал навстречу ливням — струи дождя нещадно хлестали по телу и земле, оставляя после себя огромные лужи.
Мужчина рассказывал об этом Анне понемногу, фрагментарно, всякий раз поражаясь собственному бессилию передать прелесть и красоту картин, свидетелем которых он стал. Иной язык убивал всё их очарование, отчего он уже и сам начинал задаваться вопросом, правда ли они достойны такого восхищения.
Машину несколько раз слегка заносит на мокрой автостраде. Некоторое время они едут в молчании. Наконец Анна его нарушает.
— Мы доедем без проблем, баба? — спрашивает она. Обращение «отец» она произносит на бенгальском — это одно из немногих слов на этом языке, которые она знает.
— Ну конечно, разве что опоздаем немного.
— Сколько тебе осталось?
Внезапность ее вопроса обескураживает его.
— В смысле? — Вопрос вдобавок оказывается еще и болезненным, хотя девочка не собиралась задеть его чувства.
— Мама сказала, что тебе тут осталось всего три месяца.
— Да, примерно три.
— И что ты будешь делать?
— Надеюсь, я к этому моменту найду работу, и нам будет не о чем переживать.
— А ты можешь просто сказать, что ты мой папа и тебе надо остаться?
— Эх, солнышко, если бы всё было настолько просто.
Как это ни странно, но происшедшее, вопреки здравому смыслу, сейчас представляется чередой неожиданностей. Он вернулся сюда по студенческой визе шесть лет назад, когда Анне шел всего четвертый год. Он не сомневался, что после окончания аспирантуры получит рабочую визу на год, но при этом никто не сможет дать ему гарантий, что он останется тут навсегда. Он словно сидел в лодке, которая на дикой скорости несется к водопаду, блаженно наблюдая за тем, как обрыв становится всё ближе. Паниковать он начал только сейчас.
Когда они подъезжают к съезду с автомагистрали, дождь становится тише, а небо приобретает лиловый оттенок, как у синяка. Они сворачивают с трассы, и порывы ветра награждают автомобиль серией тычков — словно хулиган, напоминающий о том, что это еще не последняя встреча с ним.
Когда они сворачивают на дорожку, обрамленную елями, ведущую к дому Анны, становится слышно, как под колесами похрустывает гравий. «Шеви-Малибу» на фоне особняка во французском колониальном стиле смотрится максимально неуместно. Шахрияр делает глубокий вздох и выходит из машины.
Вэл встречает его у дверей. На ней свитер свободного покроя и штаны для занятия йогой. Рыжие локоны перехвачены резинкой для волос.
Она треплет Анну по волосам.
— Привет, кроха. Ну как, хорошо оттянулась с папой?
— Мы наелись ирисок, — Анна обнимает мать.
— Ну и как они тебе?
— Когда ели — нравилось, а сейчас думаю — так себе.
Вэл смеется и в шутку щиплет Шахрияра:
— А ты что скажешь?
— Что тут сказать? Привез ее домой целой и невредимой.
Анна расталкивает взрослых:
— А где Джереми?
— Здесь, егоза! — раздается из фойе зычный баритон.
Анна с восторгом кидается на голос, и у Шахрияра опускаются руки.
— Есть минутка поговорить? — спрашивает он Вэл.
Они выходят на покрытую гравием дорожку.
— Ты рассказала Анне о том, что у меня проблемы с визой?
Вэл смотрит куда-то за его плечо. Крошечные морщинки в уголках глаз — единственное свидетельство их уже десятилетнего знакомства, да и то они становятся видны, только когда Вэл улыбается.
— Должна же я была ей что-то сказать. Она спрашивала о планах на Рождество. Ну и мне показалось важным поставить ее в известность, что тебя тут, может, уже не будет.
— Я бы предпочел рассказать ей обо всем сам. Ну, или, по крайней мере, ты могла бы предупредить, что собираешься с ней говорить на эту тему. А я бы уж сам ей сказал.
— И когда, позволь узнать?
— Не знаю, — вздыхает он.
— Какие-нибудь успехи в поисках работы есть? У тебя осталось не так уж много времени.
***
Несколько позже он ждет наверху, пока Анна не подготовится по сну. Он считает вслух, покуда дочь чистит зубы (она останавливается, когда он доходит до ста двадцати), следит за тем, чтобы она хорошенько поработала зубной нитью, после чего встает у ее двери, ждет, пока она не переоденется в пижаму. Наконец, она разрешает зайти.
Ее комната располагается на чердаке под самой крышей с пологим наклоном. Спальня отделана деревом и очень уютная. Кровать стоит в самом углу. За единственным ромбовидным окном заливается слезами дождь — он вернулся, как и обещал. За стеклом качаются ветви дуба, что растет во дворе. Где-то в отдалении тихо рокочет гром.
— У меня кое-что для тебя есть, — говорит Шахрияр, когда Анна залезает под одеяло.
Он сует руку в рюкзак, который таскал с собой весь день, и принимается шарить в нем на ощупь. Пальцы проходятся по зиплоковым пакетам с нарезанными яблоками и крекерами, бутылкам с водой и другим свидетельствам того, что он провел день с дочерью. Наконец, он достает книгу с потрепанными уголками в серой войлочной обложке. Заглавие начертано красными, как знамя революции, буквами. На бенгальском написано রশু দেশের উপকথা — «Русские сказки».
— Когда мне было столько, сколько тебе, это была моя самая любимая книга. Это собрание русских сказок, переведенных на бенгальский язык.
Девочка не выказывает и толики переполняющего его восторга, и мужчина умолкает, будто спотыкается. В который раз его посещает ощущение, что из него никудышный отец. «Ничего толком сделать не могу», — думает он.
— Что, солнышко, даже посмотреть не хочешь?
— Я ведь не читаю по-бенгальски.
— Я знаю. Беру это на себя. Как и перевод.
Решив, что лучше потом извиниться за инициативу, нежели спрашивать разрешения дочери, он принимается читать о приключениях отважных героев, которых всякий раз неизменно зовут Иванами, о мудрых царевнах, о волках, говорящих на человеческом языке, о Бабе-яге — злой ведьме, живущей в избе на куриных ногах. Так проходит полчаса. Наконец он откладывает книгу в сторону.
— Не понравилось?
Девочка ерзает в постели и мотает головой.
— А почему?
Вместо того чтобы ответить, она поднимает на него взгляд огромных серых глаз, которые ей достались не от него, но и не от Вэл.
— Можно я тебе кое-что расскажу, баба?
— Ну конечно.
— Джереми хочет, чтоб я его звала папой.
Мужчине приходится собрать в кулак всю свою волю, чтобы его тон остался небрежным:
— Вот как?
— Ну, мне так кажется.
— А почему тебе так кажется?
— Когда он укладывает меня спать, подтыкает одеяло и целует перед сном… ну, мне кажется, что он хочет, чтоб я назвала его папой.
— А тебе этого самой хочется?
— А ты на меня очень сильно рассердишься?
— Нет, — отвечает он. — Он просто отличный папа. И поэтому, если тебе хочется, можешь его так и называть.
— Правда? — Девочка так и горит желанием получить от него разрешение. Это ясно написано на ее лице.
— Правда.
Он обнимает ее, сдерживая ревность, которая вспыхивает в нем от просьбы дочери. Чего тут удивляться? Это он обязан Анне, а не наоборот. В жизни, полной неожиданностей, надо уметь быстро привыкать к внезапным поворотам судьбы.
Джамир
Читтагонг,
Восточная Бенгалия (Бангладеш),
ноябрь 1970 года
Джамир встает до рассвета. Лунный свет, проникающий сквозь окно, заливает его тело — загорелое, жилистое, такое же, как и у сотни других рыбаков в их деревне.
Он поднялся на час раньше обычного, зная, что Хонуфа будет еще спать.
Достав самокрутку, выходит, прислоняется к глинобитной стене их хижины и закуривает, делая глубокие затяжки. На небе застыли облака, кажущиеся удивительно светлыми в этот предрассветный час. Стоит тишина, нарушаемая лишь мерным шелестом волн прибоя, стрекотом цикад да шуршанием лапок гекконов.
Он тушит окурок. Во рту привкус табака, а кожу приятно холодит соленый ветерок с моря. Мужчина снова заходит в хижину. Берет свой скарб: сверток из кожзама, в котором лежат рубашки и запасная лунги [5]. Подойдя к стене, он кидает взгляд на спящих домочадцев, неподвижно лежащих на кровати, и тянется наверх, туда, где стена примыкает к соломенной крыше. Мужчина вздрагивает, когда его пальцы вновь касаются того, что он обнаружил несколько дней назад. Плоское, продолговатое, прямоугольной формы.
Письмо.
Он тихо выходит, прихватив его с собой.
***
Прежде чем двинуться вдоль берега на запад, к дальней оконечности порта, где у шаткого причала стоит его траулер, ему приходится миновать сотни лодок, напоминающих ему о его прошлой жизни. Солнце еще не встало, и потому тип той или иной лодки можно угадать лишь по ее смутным очертаниям. Тут и двурогие сампаны, и изящные баламы, и небольшие бхелы [6].
Меж лодок мелькают силуэты. Другие рыбаки. Они смотрят на него, но при этом ничего не говорят.
Вскоре становится виден и траулер. Он называется «Сонамоти», что значит «Золотая девушка». Название начертано на борту здоровенными зелеными буквами. Это самое большое судно во всем порту — длиной двадцать два метра.
Он поднимается на корабль по сходням. Тонкие доски под его ногами протестующе стонут. Он направляется в трюм, где стоит вода в масляных разводах всех цветов радуги. Чтобы ее вычерпать, у него уходит битый час. Затем он принимается чистить шпигаты [7], дурея от вони дизельного топлива и рыбьих потрохов, которая уже стала для него невыносимой. Встает жестоко палящее солнце, а он всё работает.
Появляется капитан Аббас с остатками команды: матросом Гаурангой — седым моряком-индусом, который умолкает только для того, чтобы сплюнуть — его слюна красная от сока листьев бетеля, которые он постоянно жует, и немногословным мусульманином Хумаюном, являющимся его полной противоположностью. И тот и другой — опытные мореходы, которые учат Джамира, как разбираться в морской рыбе, как сортировать ее, как осматривать сети и поддерживать в рабочем состоянии двигатель.
Сын Аббаса Маник — ровесник Джамира и часто его задирает, и потому мужчина старается Маника избегать. Мужчины наскоро здороваются друг с другом, после чего расходятся по местам. Аббас встает за штурвал, а остальные удаляются под палубу. Вскоре траулер начинает удаляться от пристани. В такие моменты Джамира неизменно охватывает странное чувство опустошенности. Он уже два месяца служит на траулере, приняв неожиданное предложение Аббаса стать членом команды. За это время Джамир всё еще не успел привыкнуть уходить так далеко от берега. И тем не менее, рыбача на маленькой гребной лодке, он понимал, что сражается с морем отнюдь не на равных. На траулере мужчина чувствовал себя уверенней, да и сети теперь они закидывали глубже.
Закончив наиболее важные дела, Джамир отправляется на камбуз. Там находится его импровизированная постель: старые армейские одеяла и тонкая плоская подушка. Он принимается проверять, всё ли на месте, и слышит над головой скрип половиц, приглушенный разговор, а затем тяжелые шаги на лестнице. Это спускается Аббас. Он средних лет и носит отглаженную белую рубашку, облегающую его большое пузо. Джамир здоровается с ним, покуда капитан выгружает содержимое своего мешка на стол: тут и ароматные лаймы, и зеленые гуавы, и большой колючий джекфрут, и слоновые яблоки, и пучки шпината, и мангольд. Бело́к команда получает из рыбы, которую ловит.
Поверх всего этого Аббас кладет экземпляр центральной газеты. Как раз на сгибе — фото усатого человека в черном жилете поверх белой футболки, который обращается к какому-то собранию.
— Ну и что ты думаешь об этом Муджибе? [8] — спрашивает капитан.
Джамир имеет самые смутные представления о политических взглядах Аббаса и потому не торопится с ответом. Хорошенько всё взвесив, он наконец отвечает:
— Вроде бы человек неплохой. Люди в деревне говорят, что на ближайших выборах будут голосовать за «Народную лигу» [9].
— А ты?
— В день выборов я буду на корабле, с тобой.
Аббас фыркает:
— Хочешь сказать, тебе плевать на «Программу из шести пунктов»? Что мы сами о себе позаботиться не можем, без этих западных пакистанцев, которые вечно суют нос не в свое дело и прикарманивают всё, что плохо лежит?
Джамир в смущении качает головой:
— Баду, ты задаешь слишком сложные вопросы человеку, который даже не умеет читать. Пусть политикой интересуются богачи да помещики вроде нашего заминдара Рахима.
При упоминании Рахима Аббас недовольно кривит рот.
— Я бы не придавал такого значения этому человеку. Он куда менее сведущ, чем ты думаешь.
Много лет назад, до того как Рахим, нынешний заминдар, переехал из бурлящей жизнью Калькутты к ним в деревню, вступив во владение полями и рыбацкими судами, Аббас командовал флотилией лодок, принадлежавшей предшественнику Рахима. Стоило Рахиму перебраться в деревню, как он тут же быстро и без всяких церемоний отстранил Аббаса от дел. За многие годы, что прошли с тех пор, появилось множество самых разных слухов, объяснявших причину произошедшего.
— Это я как раз понимаю, — кивает Джамир. — У нас с ним в отношениях тоже далеко не всё гладко.
— Ну да, — кивает Аббас. — Мы все помним, как он тебя бросил с Хонуфой в тот самый момент, когда вы так в нем нуждались.
Джамир пожимает плечами:
— Я признаю, они с моей женой были очень близки. С юных лет он был для нее как отец. Но сколько лет уже прошло! Мы вполне справляемся и без его помощи. Ну а мне многого не надо. Лодка да руки с ногами, чтоб работать, — большего мне и не требуется, чтоб прокормить семью.
Аббас кладет ему на плечо тяжелую теплую руку.
— Пока я жив, у тебя будет и лодка, и работа в избытке.
***
Джамир выходит на палубу, чтобы осмотреть сеть — вдруг она где порвалась. Сеть в длину почти полтора километра, она намотана на большущий железный ворот. К тому моменту, когда он заканчивает, жирное солнце уже тычется краешком пуза в искрящееся море, которое приобрело синий оттенок, под цвет павлиньего хвоста. Корабль уже достаточно далеко ушел от берега.
Джамир потягивается — вроде можно и заканчивать с работой. Он вздрагивает, слыша внезапный всплеск. За кораблем выпрыгивает из воды стайка летучих рыб: рты разинуты, тела переливаются серебром, плавники-крылья отсвечивают розовым в свете заходящего солнца. Джамиру вспоминается момент, когда он увидел этих рыб впервые. Именно тогда он в первый раз осознал, до какой степени он чужой огромному океану, таящему в своих глубинах бесчисленное множество чудес. Краткий полет рыб над водой вполне можно сравнить с его краткими выходами в море: ведь это не более чем шанс бросить мимолетный взгляд на удивительный, совершенно ни на что не похожий мир.
— Ну прям глазам не верится, точно?
Джамир снова вздрагивает, услышав под ухом чей-то голос. Это Гауранга в тонкой белой рубахе и лунги, обернутой вокруг ног на манер панталон. Левый глаз закрывает повязка. В сочетании с морщинистым небритым лицом и волосами, которые треплет ветер, она довершает образ настоящего морского волка.
— Рыбы выпрыгивают из воды, птицы, наоборот, ныряют в воду. Что за удивительный мир сотворил для нас Всевышний.
— И не говори, — соглашается Джамир. Ему спокойно в обществе Гауранги.
— Я видел, ты говорил с капитаном. Что-то случилось? Ты попал в беду? Или нам всем что-то угрожает?
— Ничего вам не угрожает. Что же до меня… даже не знаю…
— Я бы не был так в этом уверен, — произносит Гауранга. — Видишь те пышные темные тучи, что чернее девичьих волос? Они сулят приближение шторма. Сильного шторма.
Джамир смотрит, куда указывает палец Гауранги. На западе действительно собираются тучи, словно их сбивает там в кучу чья-то гигантская рука.
— Капитану сказал?
— Не-а. Я думаю, он и сам не слепой. В любом случае, я так погляжу, шторм направляется к берегу, и нам, по идее, удастся его обойти, максимум краешек заденем. Мы ведь идем на восток, к Бирме.
Значит, буря идет к берегу. Хонуфе и его сыну придется противостоять буйству стихии в одиночку.
Гауранга догадывается, о чем он думает.
— Я бы на твоем месте особо не переживал бы насчет родни. Они ведь на суше. Там, в отличие от моря, всегда есть где спрятаться.
— Это если их предупредят, — отвечает Джамир, разглядывая оберег на шее пожилого матроса. Гауранга улыбается, поняв, на что смотрит Джамир. Он снимает оберег и дает его собеседнику. Ничего подобного Джамир прежде не видел. Талисман длиной с ладонь, иззубренный и острый. Больше всего он напоминает острие копья, сделанное из кости.
— Шип хвостокола, — поясняет Гауранга.
Джамир едва не роняет оберег. Скаты-хвостоколы у них в заливе считаются большой редкостью, за всю свою жизнь он видел их раза два. Воплощение грации и скорости, таящее в себе опасность. Эти создания вызывали у Джамира страх.
Он протягивает оберег Гауранге, но тот качает головой.
— Поноси пока сам. Прочувствуй, каково это. Иногда полезно иметь под рукой штуковину, на которую можно излить свои страхи и тревоги. Когда мне неспокойно на душе, я поглаживаю эту вещицу, и мне вроде становится легче.
— Я не могу это у тебя взять.
— Можешь и возьмешь. Пусть побудет у тебя, пока не успокоишься. А потом, если захочешь, вернешь ее мне.
Джамир надевает амулет на шею, прячет его под рубашку. Острая твердая кость раздражающе тычется в кожу.
— Ничего, скоро привыкнешь, — ободряюще кивает Гауранга. — Отец говорил, что это даже хорошо, когда тебе постоянно немного неприятно. Так человек ведет себя честнее.
— Тогда, видать, я очень честный человек, — отзывается Джамир. — Спасибо тебе.
— Рад помочь, — Гауранга подается вперед и понижает на тон голос. — Не сомневаюсь, ты весь день вкалывал. Вечером, когда будешь свободен, загляни к нам с Хумаюном в машинное отделение. Выпьем. И может, я расскажу, откуда у меня это, — он показывает пальцем на оберег.
***
После того как Гауранга уходит, Джамир работает еще с полчаса, после чего отправляется на камбуз, что-нибудь наскоро перекусить. Спустившись по лестнице, он обнаруживает, что кто-то копается в его вещах у постели.
В три шага он сокращает расстояние между собой и стоящей к нему спиной фигурой. Маник оборачивается и задирает руку с письмом. Высоко — Джамиру не достать.
— И что же это я нашел?
— Отдай! Кто разрешил тебе рыться в моих вещах?
— Эй, полегче, — Маник выдергивает письмо из конверта. Хмурится, старательно изображая величайшее изумление на потном рябом лице. Качает головой. — Что это такое? Любовное послание от твоей жены? Я и не знал, что ты умеешь читать. И что ты делаешь на корабле? Тебе место в университете.
— Маник, — в дверях стоит Аббас. Он мрачнее тучи. — Отдай.
Дородный капитан заходит на тесный камбуз. Оттого что тут собралось сразу три человека, становится невыносимо жарко. Джамир чувствует, как по спине катятся вниз капельки пота.
Маник не выдерживает взгляда отца, кидает письмо на кровать и, набычившись, уходит.
— Тяжело смотреть, как дети вырастают, а когда они себя паскудно при этом ведут — тяжело вдвойне, — вздыхает Аббас. — Хочу извиниться за сына. Он самый младший, и потому я его не порол, хотя надо было бы. Может, другим человеком бы стал.
— Я твой работник, так что это я должен извиняться, — отвечает Джамир, и вдруг у него вырывается невольное: — То письмо, что держал в руках твой сын… Я нашел у себя в хижине. Мне кажется, жена его прятала от меня.
— Ясно. Хочешь, чтоб я его тебе прочел?
— Да.
— Мы можем его выкинуть, забыть о его существовании и о том, что ты его нашел.
Джамир качает головой:
— Нет. Я хочу знать, о чем там речь. И я со всем почтением прошу тебя его мне прочесть.
— Ладно, если ты так этого хочешь, — Аббас протягивает мясистую руку. Корабль немного покачивается, а вместе с ним и лампа под потолком. Лицо Аббаса то заливает свет, то оно пропадает в тени. Джамир протягивает письмо и поспешно делает шаг назад, словно страшась некоего злого духа, который внезапно может выпорхнуть из конверта. Аббас молча пробегает глазами письмо от начала до конца. Закончив, он поворачивается к иллюминатору и долго в него смотрит.
— Что там?
— Жуткие, срамные вещи, — отвечает Аббас.
— Что именно? Скажи! От кого оно? Что там написано?
— Оно не подписано. И… лучше тебе не слушать эти мерзости.
Джамир падает на колени:
— Прочти его мне. Умоляю!
Капитан поднимает его на ноги.
— Я не стану травить воздух ядом тех слов, что начертаны на этой бумаге. Что тебе еще надобно знать? Прости, сынок. Я твой сосед, твой друг, я знаю тебя и твою супругу уже много лет. Вот даже когда несколько месяцев назад она служила у меня домработницей, моя жена только и делала, что нахваливала ее. Ее измена лишь печалит меня.
— Я тебе не верю, — Джамир качает головой. — Не верю, и всё тут. Ты врешь.
— Неужто в это так сложно поверить? — капитан выдерживает его взгляд.
Намек на прошлое Хонуфы приводит Джамира в ярость.
— Да как ты смеешь поминать об этом? Она была совсем юной, почти девочкой. Я смирился с тем, что случилось, а как другие к ней относятся — мне плевать.
Аббас протягивает ему письмо:
— Если за ней нет вины, может, ты просто обо всем спросишь ее сам?
Он берет письмо и находит в себе силы уйти. Капитан говорит что-то еще, но Джамир пропускает его слова мимо ушей. Море сейчас совершенно спокойно, ни малейшего намека на качку. Джамир этому рад — он боится, что ноги сейчас могут его подвести. Каким-то чудом ему удается подняться по лестнице и выйти на палубу. Сгущаются сумерки.
Надо чистить шпигаты.
Он направляется к ним. Опускается на четвереньки и принимается за работу. Он трудится, покуда не начинают кровоточить пальцы.
[7] Шпигат — отверстие в фальшборте судна для удаления за борт попавшей на палубу воды.
[8] Муджибур Рахман (1920–1975) — политический и государственный деятель Пакистана и Бангладеш, первый президент и премьер-министр Республики Бангладеш.
[5] Лунги — отрез ткани, оборачиваемый вокруг бедер на манер длинной юбки. Концы завязываются узлом спереди или справа-налево.
[6] Сампан, балам, бхела — разновидности лодок, использующихся в Южной и Юго-Восточной Азии.
[9] Народная лига — левоцентристская политическая партия Бангладеш, основанная в Восточном Пакистане в 1949 году.
