автордың кітабын онлайн тегін оқу Там, где крадут сердца
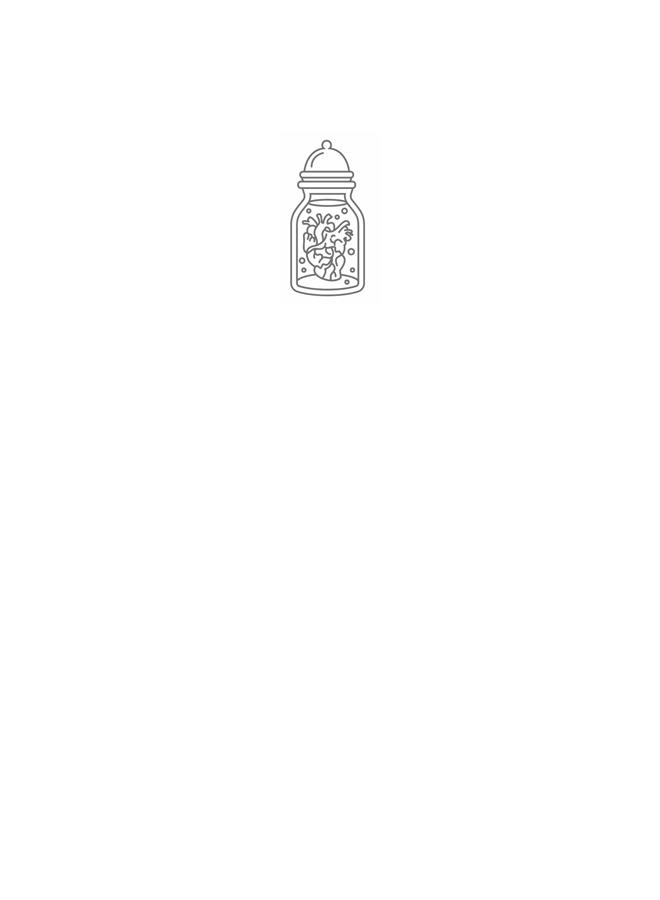

МОСКВА
2026
Глава 1
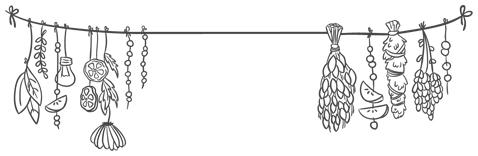
Говорят, что волшебство — настоящее волшебство, а не ту чепуху, которую бабы-знахарки продают по щепотке из своих мешочков с порошками и травами, — можно сотворить, только заполучив человеческое сердце.
Вот почему волшебницы, проезжавшие через нашу деревню, волшебницы в больших каретах с золочеными завитушками и бархатными занавесками, бывали так красивы. Их красота разбивала мужские сердца, а женские заставляла исходить ревностью, хотя женщинам лучше удавалось скрывать чувства.
Прибыв в нашу деревню, волшебницы на глазах у всех отправлялись на рынок покупать травы — у нас выращивали травы, — словно собирались варить зелье, как старые знахарки. На самом же деле эти дамы высасывали частички сердец тех, кто собирался посмотреть на них. Мы все об этом знали. Знали — и всё же бежали к ним, хотя куда разумнее было бы засесть по домам.
Для того волшебницы и колесили по деревням: они собирали частицы сердец, ничем не примечательных деревенских сердец, но на небольшие заклинания этих комочков все же хватало. Говорили, что каждый мужчина, каждая женщина, которые становились жертвами их чар, отдавали частицу своего сердца, едва увидев кого-нибудь из них, а волшебницы клали их в карман, чтобы использовать в магическом заклинании или заговоре.
Волшебницы редко забирали сердце целиком, для этого понадобилось бы выманить человека из деревни — во всяком случае, так мы думали; во время своих приездов они отщипывали от сердец понемногу; кажется, для их нужд было достаточно и малого.
Не знаю, откуда мы узнавали о сердцах, но знали мы о них с пеленок. Наверное, родители рассказывали нам эти истории, еще когда мы лежали в колыбели, но я не помню, когда и как услышала про сердца в первый раз.
Мы знали, что для настоящего волшебства потребно сердце — это единственное настоящее средство, — хотя время от времени какому-нибудь шарлатану удавалось продержаться какое-то время на чайной заварке и травах; мы знали, что от сердца могут забрать кусочек побольше или поменьше и жертва почти ничего не заметит; знали, что сердце можно даже извлечь из груди, словно устрицу из раковины; а еще мы знали, что чародеи забирают сердца у тех, кто живет в деревнях, далеко от столицы и от королевского дворца. У людей вроде нас.
Волшебницы вершили какие-то колдовские дела — но какие? Никто этого не знал, да никто и не интересовался. В столичном городе они могли колдовать как угодно, наши занятия их не заботили, а нас не заботили их занятия. Наверное, болтали мы на досуге, эти дамы своей ворожбой убивают кого-нибудь — убивают тех, кого пожелал умертвить король. Большая политика, так-то.
Наше королевство не вело войн; насколько нам было известно, оно не воевало уже сотни лет. И не исключено, что мы не знали войн благодаря волшебницам и их волшебным трудам.
Волшебницы брали у нас не так много, чтобы нас это обременяло, к тому же любое неудобство, причиняемое похищением сердец, с лихвой покрывалось восторгом, которым сопровождались их визиты; во всяком случае, именно так мы считали.
Спокойное отношение к тому, что на деле было медленно наносимым увечьем, позже казалось мне странным, но в то время и я, и все прочие относились к происходящему вполне благодушно. Пока волшебницы сидели в столице, мы охотно закрывали глаза на их деяния.
Вообще говоря, в городе бывал всего один наш односельчанин: добрый муж Прыщ. (Ладно, еще один наш односельчанин уехал в город не по своей воле, но о нем я расскажу позже.) Но история с Прыщом случилась тридцать лет назад, и он почти выжил из ума, так что толку от него было немного.
Мы старались по возможности не покидать деревню, а пределы королевства — и подавно. Время от времени через наши края проезжали путешественники, которые направлялись Куда-Нибудь Еще, но чаще мы видели, как они возвращаются назад. Они всегда казались озадаченными тем, что не смогли уехать дальше. Позже мне стало казаться, что мы были на удивление нелюбопытными, но в то время мы редко задавались такими вопросами.
Подданные нашего короля обычно рождались и умирали, не покидая родной деревни. Да и какой смысл покидать ее? Все деревни походили на нашу; а за границами королевства нас, насколько мы слышали, не ждало ничего, кроме войн и опасностей. В столице же имелись ужасы похлеще волшебниц и похищенных сердец.
До нас доходили истории о детях, которых оставили в городе их родители — а может, они сами заблудились.Дети эти сбивались в банды карманников или попросту исчезали без следа. Если мы плохо вели себя, взрослые пугали нас, говоря, что отвезут нас в город и мы присоединимся к этим бандам. Папа, конечно, так не говорил, а вот родители других ребят — случалось.
Женам и невестам не нравилось, когда приезжали волшебницы: уж больно страстные взгляды бросали на красавиц их благоверные.
Женщины, скрестив руки, неласково хмурились, наблюдая, как эти очаровательные дамы высасывают сердца, по праву принадлежавшие женам. Во всяком случае, они так считали.
Я получала немалое удовольствие, глядя, как мужчины ежатся то под взглядами волшебниц, то опасаясь страха и гнева своих лучших половин. Потом, когда волшебница отбывала, женщины приходили в лавку, цокали языками, жаловались на слабости мужчин. Я невозмутимо выслушивала их, заворачивая им мясо, однако в душе ликовала.
Мне нравилось, что они так негодуют. «Побудьте-ка хоть недолго в моей шкуре», — думала я. Даже самые хорошенькие мои односельчанки волшебницам в подметки не годились, а я никогда не сомневалась, что я самая неприметная девица во всей деревне.
Я знала, что мне никогда не стать молодой женщиной с младенцем на коленях, не стать даже степенной матроной в переднике, припорошенном мукой. Я убеждала себя, что такое положение дел меня более чем устраивает, однако все же не без удовольствия наблюдала, как женщины бесятся от ревности. Я не могла найти у себя в душе сочувствия к ним.
Но волшебницы и правда умели очаровывать. Даже я не могла этого отрицать. Как-то одна из них, вылезая из кареты, взглянула на меня — и улыбнулась так, словно я ей страшно интересна, словно я человек, о котором ей, будь у нее время, хотелось бы знать больше. Тогда-то я и поняла, как они разбивают сердца, эти женщины.
***
Мы знали только одного человека, которого волшебницы увезли на самом деле. Обычно во время своих редких визитов эти дамы просто высасывали для своих целей достаточно сердец у изрядного количества идиотов, а потом уезжали, словно собрав урожай самых спелых плодов.
Мне казалось, что время от времени они выходят из игры, а может быть, и нет — эти красавицы, похоже, не старились; наверное, они просто ждали, пока новые идиоты дозреют до того, чтобы с вожделением смотреть на волшебных городских дам. Дураки в нашей деревне всегда плодились с лихвой.
Возможно, к нам приезжали одни и те же дамы, просто они наведывались к нам так давно, что даже старейшие односельчане уже не помнили, когда это началось.
Так вот, одного из наших как-то увезли в город. Ничем особенным этот человек не отличался: не красавец и не урод, не молод и не стар. Он уже перешагнул брачный возраст настолько, чтобы большинство девушек забыли о нем, но не настолько, чтобы они время от времени не подмигивали ему.
До этого случая я даже имени его запомнить не могла, знала только, что оно начинается на Д — Дом? Денис? Но после того, как его увезли, его имя выучили все, оно стало единственным в своем роде; такие имена начинают нашептывать, они звучат как музыка: Дэв. Дэв Пест.
В тот день в деревню приехала очередная волшебница; из кареты, как обычно, показалась хорошенькая белая ножка. Иные ножки оказывались стройными, иные налитыми и полными, но у всех чародеек были такие тонкие лица, что перехватывало дыхание; кожа у них бывала всех цветов, от белой до угольно-черной; а волосы — кудрявые ли, нет ли — всегда словно светились изнутри.
Над прическами волшебниц явно немало трудились: косы и блестки были пристроены на голове самыми хитрыми способами. Они, эти дамы, усыпали драгоценными камнями все, что получится: пальцы, запястья, лодыжки, у некоторых даже нос был проколот.
Платья они носили всех цветов, а юбки шириной не уступали четырем пивным бочкам доброго мужа Фитиля; держались они на плетеном каркасе.
Юный Сэм Стеббин клялся, что заглянул однажды под такую юбку, когда дама спускалась из кареты по лесенке. Сэм говорил, что лежал на земле — он, мол, что-то обронил и полез поднимать (врал, конечно); взглянул вверх и мельком увидел нижнюю юбку, потом — позванивающий браслет на лодыжке, а выше — великолепную ножку. Парни заставляли его повторять эту повесть снова и снова.
Волшебницы до последней минуты не раздвигали занавески в окнах своих карет, и мы привставали на цыпочки, чтобы разглядеть их; штаны у мужиков бугрились на ширинке, словно их дружки тоже привставали на цыпочки, желая бросить любопытный взгляд на элегантных городских дам.
Дэв тогда работал на рыбном рынке. Он подолгу торчал на реке, а потом возвращался оттуда с палками, на которых болтались связки вонючих рыбешек. Да и сам он попахивал рыбой. До того самого дня о нем только это и знали.
У волшебницы — той самой, что увезла Дэва, — на золотые волосы была наброшена черная вуаль, и золото светилось сквозь кружева, как маргаритки в траве.
Она даже не стала, как обычно, делать вид, что собирается к травнице. Грациозные ножки в ботинках на пуговках ступили на нашу грязную деревенскую землю, и волшебница без тени смущения огляделась. Она смотрела на толпу зевак, словно добрая жена, которая щупает дыни и взвешивает яблоки у прилавка с фруктами, и глаза у нее были желто-зеленые.
Заметив Дэва, стоявшего у своего прилавка рядом с бочкой рассола и шестами с сушеной рыбой, чародейка указала на парня длинным пальцем.
Дэв глупо огляделся — вправо, влево, потом назад, но затем сообразил, на кого она указывает, и брови у него подскочили так высоко, что исчезли в волосах.
Волшебница улыбнулась. Дэв качнулся вперед, едва не перевернув бочку с рассолом, и, спотыкаясь, побрел через молчаливо глядевшую на него толпу.
Люди раздались, давая ему поход, как давали проход деревенскому пьянице, доброму мужу Трю, только без смешков и непристойных шуточек. Все понимали: не надо удерживать Дэва, пусть идет своей дорогой.
Волшебница продолжала подманивать его пальцем все время, пока он, пошатываясь, брел к ней; красивая ручка не дрогнула. Дойдя до волшебницы, Дэв встал, колеблясь, как трава на ветру. Он не отрываясь глядел в ее исполненное совершенства лицо, а мы не отрываясь глядели на него.
Чародейка улыбнулась, и сердца наши качнулись, как сушеные рыбины на шесте Дэва. Потом она открыла дверцу кареты, поднялась по ступенькам и скрылась внутри. Дэв, спотыкаясь, последовал за ней. Он выглядел деревенщиной и был деревенщиной. Мы увидели, как из темного зева кареты протянулась изящная ручка, и дверь с тихим щелчком захлопнулась.
Мы не разошлись по делам. Мы молчали. Мы ждали. Прошло немного времени — четыре минуты, пять? Трудно сказать. Колеса с чмоканьем выдрались из грязи, и экипаж с грохотом покатил назад по дороге, по которой приехал.
Едва карета скрылась из виду, люди загомонили. Сначала тихо, потом громче. Началась досужая болтовня. Непристойные предположения: чем там Дэв с волшебницей занимаются в карете. Стали звать стражу — не может же волшебница увезти его за здорово живешь! Кто знает, для чего он ей понадобился? Разве это законно?
А мужчины с вожделением смотрели вслед карете, поголовно желая оказаться на месте Дэва. Может быть, они мечтали, что когда-нибудь другая карета остановится, другая дама поманит их и увезет с собой в город, чтобы использовать, как ей заблагорассудится, а они и не станут возражать, пусть она выжмет их, как перезрелые плоды. Может быть, они воображали, что в чародейках волшебно все, вплоть до самых тайных мест. Что влагалища их сияют, или оттуда сыплются искры, или они раскрываются, подобно цветам.
Никто не позвал стражников. В конце концов, Дэва, может, и увезли, но уехал-то он по своей воле. Мы все тому свидетели. К тому же стражники против волшебниц не сильнее каких-нибудь святых пустынников. Зачем нам законы или даже боги, если мы живем под защитой волшебниц, которым все под силу? Ничто не сравнится с их могуществом. Мать Дэва плакала. Жители деревни предприняли несколько вялых попыток связаться с городскими властями, хотели писать письма — но никто не знал, куда их посылать.
Дэв вернулся через неделю или дней через десять и был один. Его нашли лежащим на его же рыбном прилавке, ранним утром, когда первые торговцы привезли в тележках провизию и цветы.
Он храпел, лежа головой на земле; задранные ноги мокли в его же жестяной бочке с протухшим рассолом, который никто не удосужился вылить. Был Дэв голый, как говорили некоторые, и с большим синяком на груди. Я после этого никогда не видела его без рубахи и не могу сказать, правду говорили люди или нет.
Дэва растолкали, плеснув вонючей воды ему в лицо, похлопали по щекам и завернули в дерюгу, чтобы он выглядел хоть сколько-нибудь пристойно. В ответ на вопросы о том, что с ним сталось, Дэв только с ошеломленным видом оглядывался через плечо, словно искал кого-то. Он походил на ребенка, высматривающего мать в толпе; казалось, он вот-вот заплачет. Большие пересохшие губы дрожали.
Мать Дэва какое-то время держала его подальше от посторонних глаз. И за задернутыми занавесками, чтобы никто из деревенских не мог бросить на него любопытный взгляд.
Наконец Дэв выполз из дома; он походил на человека, выздоравливающего после долгой болезни. Он даже ходил с палочкой, бог ты мой! — я думала, что для видимости. Волшебница, надо полагать, не ногами его интересовалась.
— Бедняга, — сказал как-то отец, качая головой (Дэв как раз проходил мимо нас).
— Слабак. Его окрутили, а он и поддался, — сказала я, сдувая с лица прядь волос.
День в лавке выдался исключительно жарким и суматошным, я впала в раздраженное состояние и меньше обычного была склонна проявлять понимание.
Па взглянул на меня и мягко заметил:
— Не суди так скоро, Фосс. Мы не знаем, каким волшебством она его осилила. И не знаем, как сами повели бы себя на его месте.
— Я-то уж точно не поддалась бы. Будь она хоть какой красавицей.
Па улыбнулся. Так он улыбался, когда говорил о маме, — грустная улыбка, в которой одновременно светилось счастье.
— Увидим, — сказал он. — Ты еще очень молода. Сделать человека дураком — или слабаком, как ты выражаешься — может не только волшебство. Этой силе поддавались мужчины и покрепче Дэва.
Я фыркнула, но рассмеялась. Да, Па всегда умел смягчить меня.
В деревне, конечно, много судачили о приключениях Дэва с волшебницей. Громкие разговоры в кабаке, приглушенные — на улице; мужчины старались, чтобы женщины не услышали их болтовни, но меня-то за женщину никто не считал, так что я много чего наслушалась.
Разговоры велись вполне ожидаемые. О казематах, напичканных всевозможными приспособлениями для темных удовольствий. Дэва, в ошейнике раба, заставляют вылизывать геморроидальные шишки его госпожи или, в более кровожадных вариантах, пожирать куски собственного сердца, подаваемые ему в виде элегантных закусок, нафаршированные какими-нибудь оливками без косточек и нежнейшим сливочным сыром.
Всем страсть как хотелось, чтобы Дэв рассказал про самый сок — а если не про сок, так хоть про ужасы. А может, и про то и про другое.
Но Дэв ничего не рассказывал. Когда его спрашивали — а его спрашивали, поначалу намеками, потом, когда он не соизволил выложить подробности, более настойчиво, — он принимался плакать, как ребенок, лицо его делалось беззащитным, потерянным и мокрым, и мужчины в смущении отводили глаза.
Он часами плакал в кружку с элем, не зная стыда, как младенец, отчего все, кто сидел у стены, искоса поглядывали на него. Спустя какое-то время вопросы прекратились.
Дэв никогда не рассказывал, как ему жилось с волшебницей. Он так и не женился, не завел подружку. До меня долетали слухи, а еще я видела, как он проходил мимо окон лавки с потерянным видом, словно у него что-то отняли, и все высматривал кого-то в толпе.
Мне и в голову не приходило самой заговорить с ним о волшебнице или начать расспрашивать о том, как ему, зачарованному, жилось. Мне в те дни казалось, что волшебницы не имеют ко мне никакого отношения, — я только смотрю, как они проезжают через деревню. Какой же я была дурой.

Глава 2
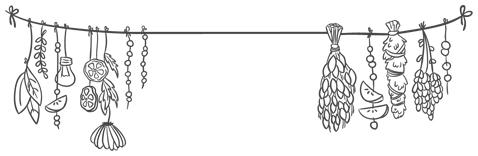
Мы с Па жили в центре деревни, прямо за нашей лавкой, в самой гуще событий. Па был мясником, и неплохим; руки его походили на бараньи окорока, а секачом он так ловко снимал мясо с костей, что остов туши и тот был в восторге.
Я работала с Па в лавке. Меня это более чем устраивало. Я стояла за прилавком и наблюдала через большие окна, что происходит на деревенской площади; меня же при этом мало кто видел. Да и сама работа мне нравилась.
Управляться в лавке было по большей части моей обязанностью. Отец разделывал туши, а я принимала заказы и деньги. Каждый день я, под неодобрительным взглядом короля, изображенного на портрете, — закон требовал, чтобы такой портрет был в каждой лавке, у нас он висел на задней стене, — подсчитывала монеты, производя, к своему удовольствию, все вычисления в уме. Я гордилась тем, как легко мне даются вычисления и как быстро я соображаю.
Как я уже говорила, деревня наша мало отличалась от других деревень. Несколько лавок, включая нашу мясницкую, а также кузницу, сгрудились вокруг рыночной площади, на которой раз в неделю ставили свои прилавки торговцы помельче. Дома уходили к крестьянским полям; у реки раскинулся рыбный рынок.
Мы, жители деревни, куда никто не приезжал и откуда уезжали очень немногие, были очень разными: наши края сотни лет заселяли и перезаселяли — сначала кочевники, охотники и земледельцы, потом — воины, сражавшиеся в давних войнах.
С тех пор все давно переженились со всеми, но на человеческом разнообразии это сказалось мало. По орехово-коричневой коже доброй жены Мег, например, было видно, что ее предки происходят из краев, где много солнца, а высокие скулы и почти гигантские руки и ноги Калли-простака свидетельствовали о том, что его род происходит от могучей расы воинов, хотя сам Калли был человеком мягким и ходил ссутулившись, чтобы выглядеть не таким высоким и грозным. Что же касается моей матери, то у нее кожа была почти золотистой, а волосы имели оттенок темного табака, но во мне почему-то победила отцовская бледность.
Однако мы жили под защитой короля и волшебниц, сколько помнили односельчане, их бабушки, дедушки и дедушки дедушек, и враждебные войска не вторгались в наше королевство. Сама мысль о войне задержалась только в кровавых сказках о смерти, а рассказывались такие сказки не часто.
Я всегда была белой вороной. Мать, дочка богатого купца, удивила всех, включая собственных родителей, которых я никогда не видела, выйдя замуж за скромного мясника. Она умерла, рожая меня, своего первого и единственного ребенка, и я не могла не думать, что я каким-то образом виновата в ее смерти.
Смерть от родов в нашем королевстве была чуть ли не проклятием, только не для матери, а для ребенка. Старое поверье, которое никак не хотело уходить.
Нам говорили, что волшебницы, собирая у нас урожай сердец, нам же приносят пользу: матери больше не умирают в родах, а младенцы рождаются здоровыми. То же касалось детей постарше и детенышей животных. Нам не уставали твердить, как нам повезло, что волшебницы не оставляют нас своими благодеяниями.
До того как волшебницы встали на защиту королевства — во всяком случае, так говорили предания, — овцы теряли ягнят, когда ягнились; телята иногда рождались мертвыми, их вынимали из материнской утробы в водной оболочке, бездыханными.
Однако за то время, что король сидел на троне, случаи мертворождения практически сошли на нет; матери тоже редко умирали родами, обессилев от потуг. Детей рождалось все меньше, но это была малая плата, хотя пожилых людей в королевстве все прибавлялось. Пожилых было теперь так много, а детей так мало, что жизнь в деревнях казалась сонной, тяжелой на подъем — но ведь мы сами были сонными, тяжелыми на подъем людьми.
Моя мама оказалась среди тех немногих, кто, порождая другую жизнь, потерял собственную. В детстве другие ребята жестоко дразнили меня, намекая, что я из тех брошенных детей, кто, попав в столицу, болтается по улицам или исчезает без следа.
И то сказать: в тех редких случаях, когда корова, овца или кобыла не переживали родов, предполагалось, что с теленком, ягненком или жеребенком что-то не так. Фермеры не тратили времени и корма зря, не гадали, что вырастет из новорожденных; таких детенышей сразу сдавали на скотобойню. Чтобы потом проблем не было.
Родители не одобряли своих чад, во всяком случае, напрямую их не поддерживали, однако и прекратить дразнилки не призывали. Издевательства прекращались, если их мог услышать Па. Все знали, на что он способен, как безоглядно любит меня. А я никогда ничего ему не говорила — знала, что он расстроится.
Па взял жену себе не по чину. Кое-кто поговаривал, что моя мать была слишком хрупкой для жены мясника, слишком нежной для нашей простой жизни и нашего простого жилища.
Я выросла. Руки у меня стали сильными, как и подобает рукам дочки мясника; у меня было круглое лицо и фигура, которую можно описать в лучшем случае как «крепко сбитая». Волосы морковного цвета едва доставали до плеч, сколько бы меда я в них ни втирала. В лавке я все равно убирала их под чепец, так что их мало кто видел.
Передник, который я повязывала каждый день, девственно-белый в первый час после открытия лавки, к закрытию становился мятым, влажным, в пятнах крови. За прилавком из-за возни с мясом всегда бывало душно, и я выглядела как бог знает что, хотя меня это не заботило. И Па это не заботило. В мясной лавке полагается быть потным и краснощеким, так что никто не бросал на меня странных взглядов.
Другое дело, когда мне надо было приодеться — в церковь или в гости; тогда я влезала в тесные чулки и платье, накручивала на себя ленты. В лавке люди знали, чего ожидать. Они понимали, что увидят меня — во всей моей красе, не разряженной в пух и прах. Обычно я обходилась безо всей этой чепухи.
Правда, иногда я видела девочек — тех, с кем когда-то ходила в школу; они гуляли под ручку со своими милыми, и тогда я испытывала болезненный укол.
Иногда девушки эти становились женами, и тогда они приходили в лавку за парой приличных котлет на косточке или стейков, чтобы приготовить столь же приличный обед своему Неду, Найаллу или кто там ждал их дома. А потом — обычно времени проходило не так уж много — они возвращались, на этот раз уже за тушей целиком или за потрохами на суп; так я понимала, что у них народились маленькие Недики или Найаллы.
Стыдно признаться, но у меня тоже был Нед или Найалл. Точнее, не то чтобы был — мне просто хотелось, чтобы он был; мне никогда не приходило в голову, что женщинам вроде меня — неинтересным, непримечательным, трезвомыслящим женщинам — не положено хотеть таких вещей, хотя всем остальным это было ясно как божий день.
Я думала, что и мне можно вздыхать по какому-нибудь парню, как вздыхали другие, и мечтать о букетиках на ступеньках моего крыльца или камешках, брошенных ночью в мое окно. Тогда я была моложе, но потом поняла, что я не столько женщина, сколько некто вроде мула или курицы-несушки: мое дело — приносить пользу, а восхищаться мною необязательно.
Мне даже сейчас больно вспоминать об этом. Как глупо я улыбалась, когда он являлся в лавку за вырезкой — младший из мальчиков Ходжес, Арон, лопоухий, с обветренными губами. Мужчинам можно быть некрасивыми, для них-то красота не имеет ни малейшего значения. Я говорила с ним, склонив голову к плечу, — потому что так делали другие девушки.
Сейчас, когда я вспоминаю об этом, когда вижу, как я, потная, красная, в чепчике в кровавых пятнах, таращусь на Арона так, будто он само совершенство, меня словно тычет под ребра жестким пальцем кто-то недобрый.
Как бы то ни было, я питала надежду, что Арон ко мне неравнодушен. Я уж сколько намеков я ему подавала. Каждый раз, когда он входил в лавку, мне казалось, что он пришел повидать меня. Хуже того: так думал и Па, потому что он-то свято верил, что у меня из задницы солнце сияет и что я краше тысячи волшебниц.
— Ты подаришь мне внуков раньше, чем я думал. Давай-ка освободим побольше места в свинарнике, чтобы им было где устроиться на ночь.
— Па! — Я шлепала его по руке, но втайне мне было приятно.
Со стыдом вспоминаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы понять: Арон не только не питал ко мне ответной страсти, но и моей не замечал, так что все мои ужимки были и унизительными, и смехотворными одновременно.
Знаю, что вам это покажется смешным, но когда Арон подсунул под нашу дверь записку, то я не заподозрила дурного. Я всю жизнь прожила с Па, который любил меня больше всего на свете, и, несмотря на издевки, преследовавшие меня в детстве, и зловещие обстоятельства моего рождения, я понятия не имела, что в глазах любого другого мужчины дерьма не стою.
В записке Арон звал меня к себе на ферму помочь давить вино. Его семья, Ходжесы, жила виноделием, они отправляли большие бочки в питейные заведения и даже в столицу. Арон назначил день и время. Я сказала Па, и он благословил меня. Я надела платье с вышитыми желтыми цветочками и уложила косу короной. Такой красавицей я не выглядела еще никогда.
***
На ферме меня уже ждали Арон и бочка винограда. Арон вымыл и вытер ветошью ноги, готовясь давить виноград. Улыбаясь от одного оттопыренного уха до другого, он попросил меня снять обувь и тоже вымыть ноги. Я послушалась; он подал мне руку и помог забраться в бочку с виноградом. Помню зеленый кислый запах ягод, помню, как они лопались у меня между пальцами.
Потом Арон проводил меня домой. Я надеялась, что он меня поцелует или хотя бы подержит за руку, но мы просто вместе дошли до мясной лавки. Ступни у меня покалывало после винограда, я ощущала на себе фруктовый запах; приятное разнообразие, а то в мясной лавке вечно царил удушливый запах крови.
Надо отдать Арону должное: он ловко все спланировал. Его затея стала ясна не сразу, и когда он перестал казать нос, я просто решила, что он меня бросил.
Каждую божью ночь я поливала подушку слезами — до того самого утра, когда пришла на рынок и обнаружила, помимо бутылей с обычным вином Ходжесов, бадягу под названием «Жабье вино». Всего три бутылки, на этикетке которых красовалось грубое изображение жабы в мясницком фартуке. Когда я, волоча ноги, вышла из лавки, у входа меня уже ждали Арон с приятелями. Они смеялись. Я повернулась и тем же тяжелым шагом пошла назад.
Па чуть не взбесился. Я никогда еще не видела его таким злым. Он чуть не перевернул прилавок, прежде чем отец Арона прибежал утихомиривать его. В конце концов, добрый муж Ходжес не имел к затее Арона и его приятелей никакого отношения.
Па расколотил бутылки вдребезги; полилась зеленая жижа; на минуту я поверила этикетке и решила, что заразила вино какой-то ужасной, отвратительной болезнью. Хуже того: эта зеленая жижа и есть я, на виду оказалась сама моя суть. Моя неправильность, которая убила мою мать и должна была убить меня; бог знает, почему этого еще не произошло.
Конечно, я ошибалась. Арон слил раздавленный нами виноград прямо в бутылки, а бутылки запечатал, не отфильтровав жижу и не дав ей превратиться в вино. Просто ради злой шутки.
Ночью я все же набросала песку на то месиво, что осталось на площади, чтобы впредь не видеть его.
Больше я не тратила времени на парней. Я усвоила урок. Может быть, все это было частью проклятия, которое, в моем воображении, наложила на меня смерть матери: меня не полюбит ни один мужчина, кроме Па. И свет, который загорался в глазах Па, когда он смотрел на меня, отныне стал для меня такой же обидной насмешкой, как мое собственное отражение в зеркале.

Глава 3
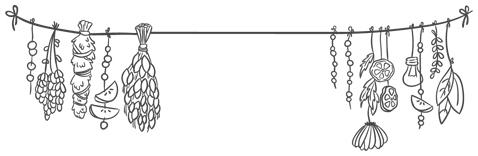
Я никогда не видела, чтобы волшебным ремеслом владели мужчины; насколько я знаю, никто в деревне такого не видел. Я даже не знала, что мужчины-волшебники существуют. После-то, конечно, все уверенно рассуждали — да, разумеется, среди людей волшебного ремесла есть и мужчины, — но, по-моему, односельчане врали: они «знали» не лучше меня.
Мы с детства привыкли видеть, как каждые два месяца через нашу деревню проезжают кареты, но в последнее время они зачастили, причем скулы волшебниц становились все выше, а фигуры все соблазнительнее.
Год у нас выдался необыкновенно тяжелым — скот болел больше обычного, урожай оказался скудным; людям хотелось развлечься, так что не думайте, что мы были против дополнительных визитов. В конце концов, волшебницы подарили нашему королевству процветание, и чем чаще они к нам приезжают, тем, значит, скорее дела пойдут на лад.
Когда появлялась очередная карета, на площади начиналась суета. Толпиться или глазеть считалось неприличным, но у людей всегда находилось какое-нибудь неотложное дело, которое требовало, чтобы они стояли посреди площади и глядели в никуда, делая вид, что вспоминают, за чем собрались в лавку.
В день, когда к нам явился первый волшебник, народу столпилось больше обычного, потому что каждая новая карета бывала роскошнее предыдущей, а запыхавшийся парень, который прибежал доложить о прибытии волшебницы, сказал, что эта карета роскошнее всех.
Он не ошибся. Черная карета блестела. Блестела не как от краски, не как темное дерево; это был резкий блеск, какой бывает у камней, — хотя, конечно, карета не была каменной: каменную карету не смогли бы тянуть даже два запряженных в нее великолепных черных тяжеловоза, сколько бы они ни встряхивали гривами и ни выкатывали глаза, сколько бы ни цокали копытами с длинными щетками по булыжной мостовой.
На окнах этой кареты висели черные занавески, расшитые стеклярусом и бусинами, а на колесных нишах и по периметру двери лепились, как лягушачья икра, черные драгоценные камни. Я смотрела на карету, а Па смотрел на меня, как всегда улыбаясь краем рта и подняв бровь.
— Хочешь сбегать туда, Фосс?
— Нет.
— Симпатичная карета.
— Мне и отсюда неплохо видно.
— Иди. Я постою за прилавком. Все равно в лавку никто не придет, пока эта мадам здесь.
Я вытерла руки о передник и развязала тесемки чепчика, потому что и правда любила поглазеть на волшебниц, хотя сама демонстративно вздыхала и закатывала глаза.
Я знала, что каждый раз волшебницы увозят с собой очередную частицу кого-нибудь из нас, но мне все равно нравилось смотреть на них. Люди любят смотреть на красивое, вот и мы любили. В лавке я особой красоты не видела, а уж в зеркале, боги свидетели, не могла обнаружить ни грана красоты.
Я протолкалась сквозь собравшихся и стала смотреть, как на площадь въезжает большой экипаж. Лошади фыркали и громко стучали копытами. Им — волшебницам — не требовался кучер, они каким-то образом правили лошадьми прямо из кареты. Лакеев или слуг при них тоже никогда не было. Они путешествовали в одиночестве.
На площади в тот день не было только доброй жены Тилли, травницы. Ей приходилось хуже, чем прочим: она сидела в лавке, готовясь отпустить волшебницам все, чего бы они ни потребовали. Щепотка этого, кусочек того. На самом деле они не нуждались в травах, травы были лишь предлогом приехать в деревню, и мы делали вид, что чародейки в нашу деревню и правда явились по столь невинному поводу.
Даже травы в последнее время росли скудно, и Тилли радовалась, что участившиеся визиты пополнят ее тощий кошелек. Платили волшебницы хорошо.
Как я и говорила, на площадь сбежалась почти вся деревня, за исключением Тилли. Люди делали вид, что не смотрели, а сами чуть не подскакивали от нетерпения, раздираемые любопытством. Все ждали, когда гостья встряхнет волосами в первый раз, когда покажется точеная лодыжка.
Мы увидели, как кто-то действительно встряхнул волосами, только они были короче и кудрявее обычного и не падали тяжелой волной. Из кареты показалась нога в сапоге — с высоким голенищем черной кожи, блестевшей, как мокрый собачий нос; голенище доходило до мускулистого бедра, отнюдь не женского.
Все молчали, но в толпе забормотали, заворчали: люди поняли, что на этот раз к нам явилась не волшебница. К нам явился волшебник.
Он встряхнул головой, отбросив назад черные волосы, и мы увидели перед собой то же волшебное лицо, только более угловатое и более резко очерченное: некоторые места выступали, а некоторые западали, но точеные скулы и странные полные света глаза были те же, что и у всех них.
Вновь прибывший, в отличие от дам, не стал с улыбкой оглядывать нас, а, ступая начищенными сапогами по пыльной, замусоренной площади, прошествовал сквозь толпу к лавке Тилли, не говоря ни слова.
Мы, деревенщина, всей толпой в нерешительности топтались на месте, зачарованные и пораженные одновременно. Наконец приезжий вышел из лавки, неся коричневый мешочек с травами, и снова, не говоря ни слова, ни на кого не глядя, вернулся к карете.
Пока его не было, лошади потряхивали головами и рыли землю, как цыплята в поисках съестного, но стоило его сапогу снова коснуться ступеньки, как они тотчас утихли, гордо изогнули шеи и замерли.
Волшебник швырнул покупку на сиденье и обернулся — всего один раз, окинув пристальным взглядом серо-голубых глаз всю нашу толпу. Люди стали топтаться на месте, смотреть по сторонам.
А потом волшебник взглянул на меня.
Я поняла, что никто еще не смотрел на меня, не смотрел по-настоящему. Наверное, подумала я, это потому, что люди наперед видели историю моей жизни, прямую, как ухабистый проселок, — именно так я сама видела свою жизнь. Ни мужа, ни детей. И не стоит надеяться, что какой-нибудь ухажер прижмет меня к стене и задерет юбки.
Будь я старухой, чей брачный возраст остался далеко позади, мне было бы проще; но если ты девушка, вокруг которой должны увиваться парни с цветочками и прочей чепухой, — о, это совсем другое.
Но волшебник смотрел на меня. Так, что потребовалось бы новое слово для «смотреть». Не просто взгляд, брошенный в том или ином направлении.
Я могла бы сказать, что в тот момент для меня не существовало никого, кроме нас с ним, могла бы сказать, что звуки утихли, что его взгляд ощущался как нечто реальное и острое, пронзающее насквозь. Все эти слова были бы верными, но не в том смысле, в каком их используют влюбленные.
Когда-то мне в ногу воткнулся огромный шип якорца — эти цветы росли у колодца; шип прошел между двумя косточками и проткнул ногу насквозь; белое острие порозовело от моей крови. На долю секунды, до боли, когда шип проделывал свой путь через мою плоть, мне стало горячо, остро и почти хорошо. Вот что я почувствовала в ту минуту, ощутив на себе взгляд волшебника, почувствовала всем телом, с ног до головы; самые потаенные места моего тела свело тянущей судорогой.
Я отчетливо увидела его лицо — крупный нос-клюв, рот, уголки которого тянулись кверху, раскидистые черные брови, серо-голубые глаза под ними, и кудри, которые то и дело надо было отбрасывать с лица, чтобы открыть резко очерченный подбородок, и длинная шея, белая и гладкая — как у зайцев, которых резал и потрошил в лесу Па.
Когда волшебник скрылся в карете, мне показалось, что из меня выдергивают кишки, как во время месячных кровотечений. Я попыталась устоять на ногах, но шлепнулась на задницу, прямо в лужу, юбки раскинулись вокруг меня огромной уродливой кувшинкой, в центре которой сидела я — лягушка-квакушка.
— Фосс, ты хорошо себя чувствуешь?
Чьи-то руки подняли меня, отряхнули, но платье было уже не спасти. Я что-то пробормотала, растолкала народ и вернулась в лавку.
— Что с тобой стряслось? — спросил Па.
— Упала.
— Иди приведи себя в порядок.
Па спасло от заушины (за то, что указал на очевидное) только то, что меня все еще шатало после Взгляда волшебника.
— Головой ударилась? — спросил Па.
У меня, наверное, был обморочный вид.
— Может быть, — сказала я. — Наверное, мне лучше прилечь.
Па фыркнул в усы, но что ему оставалось, кроме как сказать «ладно»?
Когда я тащилась вверх по лестнице, он крикнул мне в спину:
— Надо же — волшебник! Кто бы мог подумать?
Глава 4
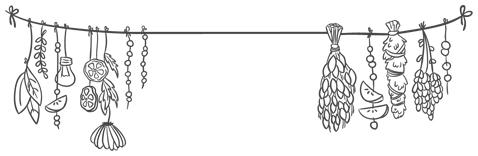
Я лежала в кровати, и тело у меня гудело и спорило, словно улей, полный пчел. Карета укатила. Я слышала, как она громыхает и постукивает, и мне казалось, что какую-то часть меня волочет за каретой, как на веревке.
Неужели так чувствовали себя мужчины, когда приезжали волшебницы? Может, я поспешила, сведя все их чувства к бугру на ширинке и воспоминаниям о хорошеньком личике, после которых несчастным приходилось вступать в сражение с собой под одеялом?
Наверное, не я одна так мучаюсь, твердила я себе; волшебник наверняка проделал то же самое еще с кем-нибудь из толпы. Так оно и бывает. Просто я единственная из всех шлепнулась на задницу при всем честном народе. И все же руки и ноги покалывало, они жаловались, они жили собственной жизнью! Я лежала неподвижно, но сердце колотилось, как после бега.
Я проспала остаток дня и всю ночь; сны обвивали меня, словно лозы, выдавливали из меня всю волю к борьбе, поэтому проснулась я в жару, всклоченная и разбитая.
Когда я сползла с лестницы, Па присвистнул сквозь зубы:
— Тебя как глодали всю ночь.
— Спасибо, Па.
— Поспала хоть немного?
— Да.
— Ты не заболела? — Он неловко подошел ко мне и потрогал лоб. — Тебя как поджарили. Хоть на стол подавай.
Заболела. Может, я заболела? Хорошо бы.
— Наверное, я что-то подхватила.
— Тогда тебе лучше не крутиться возле мяса. Отправляйся в постель.
Мысль о ней меня не прельщала. От постели после этой ночи осталось отсыревшее черт знает что; простыня наполовину сползла и тянулась по полу, а подушка насквозь промокла.
— Лучше схожу прогуляюсь. Проветрюсь.
— Ладно. Но потом — в постель, ясно? Я не могу отправить тебя в отпуск. — Па говорил строгим голосом, но я знала, что он шутит. Он любил меня, правда любил. Больше, чем я заслуживала. Я ни на минуту не забывала о том, что мама умерла, рожая меня, и знала, что отец горюет по ней, но меня он не винил. Я понимала, как мне повезло.
— Я ненадолго, Па.
***
Площадь уже вернулась к обычной жизни. Никто не стоял, вылупив глаза. Обычная толпа из лоточников и людей: спорят, сплетничают, транжирят время. Я уставилась в лужу, в которую упала накануне. Кто-то сказал:
— Фосс, с тобой все в порядке?
Передо мной стояла Холли, моя сверстница. И к тому же одна из самых хорошеньких и добросердечных девушек. Она вечно выхаживала птиц со сломанными крыльями или слепых котят; мне она рвалась причинить добро по той же причине. По-моему, будь ее воля, она и меня посадила бы в коробку, унесла домой и дала сосать пропитанную молоком тряпицу.
— В полном, — отозвалась я.
— А мы как раз говорили про волшебника, — сказала Холли.
Рядом с ней стояла стайка других девушек, поголовно хорошеньких, потому что большинство девушек — хорошенькие.
— А-а. — Я постаралась скрыть свой интерес.
— Сегодня никто из нас глаз не сомкнул, — пожаловалась какая-то девушка.
Я подняла голову и посмотрела на нее.
— Дурные сны? Заболела?
Может, не одна я так мучилась.
— Нет. Просто все думала о нем, — вздохнула другая.
— Он такой красивый! — прибавила третья, и тут все они пустились щебетать:
— Он и должен быть красивым. Если он такой же, как те дамы.
— Думаешь, они умеют менять себе лица?
— Как, по-твоему, они вообще люди?
— Мне кажется, они люди вроде нас, — сказала Холли. Как же еще ей могло казаться.
— А ты, Фосс, что думаешь? — спросил кто-то, осторожно приглашая меня к разговору.
— Я думаю, что они привозят беду, — сказала я. — И я бы предпочла, чтобы они возили эту беду не к нам, а куда-нибудь еще.
И я потопала назад, в лавку. Домой.
***
Спасения не было. После отъезда волшебника люди не один день говорили о его красоте и великолепии, какие у него таинственные глаза, какой он высокий, вернется ли он, отличается ли он от дам или нет.
Мужчины поняли, каково бывало женщинам после отъезда волшебниц; они ходили сердитые, сдвинув шапки на брови, и пытались утихомирить жен, дочерей и подружек. «Волшебник давно уехал. Может, хватит болтать?» — говорили они женщинам. Но женщины и не думали прекращать разговоры.
Они чахли день ото дня, мысли их бродили где-то далеко. По ночам, лежа в кровати, они вздыхали, а может, ублажали себя под одеялом. Я надеялась, что это может стать средством от хвори, которую обрела из-за волшебника.
Может, если я немного пощекочу себя пальцами, мне станет легче и все забудется… Нет, не помогло. Все равно, что гнать упертого осла через лужу. Я старалась до мозолей на пальцах, мне начало казаться, что я стерла тайное место до мяса, но моя затейница оставалась унылой и бесчувственной, она отказывалась помогать мне.
И что теперь?
Я пошла искать Дэва Песта — ничего другого мне в голову не приходило. До его похищения я не обменялась с ним и десятком слов, а после возвращения он и вовсе замолчал.
У нас считалось неписаным правилом, что девушки и женщины не должны говорить с Дэвом: люди опасались услышать какие-нибудь безнравственные подробности его вынужденного приключения, поэтому я дождалась, когда народу останется немного и некому будет сплетничать и разводить досужие разговоры. Кабак закрывался, и Дэв наладился домой.
Он просиживал вечера в кабаке, за боковым столом, роняя слезы в эль. Никто уже не обращал на Дэва внимания — все привыкли к нему, люди перестали приходить в замешательство в его присутствии. Он сделался одним из городских курьезов, вроде человека, который держал хорьков и выгуливал их на веревках, или сумасшедшей старухи, которая спала со свиньями на ферме доброго мужа Мэрроу.
Па был человек работящий и не имел ни времени, ни склонности к выпивке, так что он давно уже лежал в кровати, когда я выскользнула из дома и отправилась караулить Дэва. Я стояла в темноте, пока он одним из последних не вышел из кабака. Дэв шел, странно волоча ноги, но не из-за опьянения; он словно не мог сориентироваться в деревне, в которой жил с самого рождения.
— Дэв, — позвала я и прибавила: — Господин Пест, — потому что «господин Пест» звучало уважительнее.
Мне понадобилось позвать его несколько раз, прежде чем он остановился и принялся озираться. Взгляд его блуждал.
— Чего тебе? — спросил Дэв. — Что тебе от меня надо? — Он поднял руку, словно прикрывая глаза от солнца, чтобы лучше разглядеть меня, но вышло так, будто он защищается от удара.
— Это я, Фосс Бутчер, — сказала я. — Из мясной лавки.
— А. Фосс.
— Хотела спросить у тебя кое-что. — Я набрала в грудь воздуха. — Про волшебницу.
Пест тихо застонал:
— Я ничего не знаю. Она меня увезла.
— Да, Дэв, я знаю, что она тебя увезла. Я про это и хотела спросить.
— Я ничего не знаю.
— Да, но… Когда она тебя увезла, что ты почувствовал?
Дэв взглянул на меня повнимательнее, словно на самом деле обдумывал мой вопрос.
— Я был счастлив, как никогда в жизни.
— И ты уехал с ней в столицу, да?
Глаза Дэва снова стали пустыми.
— Дэв, не нужно рассказывать мне все. Просто… — Я поколебалась. — Вчера приезжал волшебник, и мне кажется, со мной что-то произошло. Я… ну, странно себя чувствую. По-моему, он что-то со мной сделал. По-моему, мне надо найти его.
— Нет. — Дэв ожесточенно затряс головой и схватил меня за запястья; костлявые руки оказались неожиданно сильными. — Нет, нет, нет. И думать забудь.
— Я должна что-то сделать. — Я вывернулась из его хватки. — Я как будто заболела. Как будто он наслал на меня болезнь, и только он может меня излечить.
— Не надо, — сказал Дэв. — Хуже будет.
Он взял мою ладонь и приложил себе к груди. Я поджала пальцы: прикасаться к нему не хотелось. От Дэва пахло потом, в котором чувствовалась рыба; а может, он столько лет таскал рыбу, что рыбий жир теперь просто сочился из его пор.
— Она его забрала, — прошептал Дэв и приложил палец к губам, словно требуя от меня молчания. — Не знаю, где она его держит, но уверен: мое сердце еще живо, потому что жив я сам. Но мне недолго осталось. Недолго.
Я вырвала руку:
— Но ты же здесь, Дэв, ты вернулся домой. Ты сбежал от нее.
— Не сбежал. — Дэв стал озираться пустыми глазами, словно забыв обо мне. Я вытерла руку о платье; те места, к которым он прикасался, покрылись гусиной кожей.
Придя домой, я снова рухнула на кровать; мне казалось, что я смогу проспать целый год. Я провалилась в очередной темный сон, от которого было тесно в груди, и по туннелям этой черной черноты добралась до утра. На следующий день я снова увидела Дэва — из окна. Я окликнула его, но он не отозвался.
Я вернулась в лавку, потому что мы с отцом не могли себе позволить дать мне еще один выходной. Однако путаные, удушающие сны продолжали мучить меня каждую ночь, и я выглядела так, будто какая-то пиявка высосала из меня все краски.
Па встревожился и скупил у доброй жены Тилли все чаи и травы, которые могли бы меня излечить, но ничего не помогло. Да я и не помню, что там было, в этих снах. Ни образов, ни событий. Помню только, что меня как будто замотали в пеленки, словно младенца, да еще это чувство удушья.
А еще я все время думала о волшебнике. И ненавидела себя за это. А ведь я, в отличие от других, даже не впала в идиотское состояние, не бредила о его волосах, глазах и мускулистых ногах. Я возмущалась, я злилась на него за то, что он сделал со мной, — и все же думала о нем.
Я все еще ощущала эти судорожные подергивания, хоть и слабее, чем в первый день. Мне представлялось, что волшебник сидит на большом черном троне и тянет за невидимую веревку, которой каким-то образом обвязал мои внутренности. Блестящую черную веревку, изготовленную из того же твердого как камень материала, что и его карета.
***
— Фосс, у тебя нездоровый вид, — сказал Па, когда после визита волшебника прошло уже несколько недель.
С тех пор мы не видели ни одного экипажа, что было довольно странно: в том году кареты появлялись у нас чуть ли не каждую неделю.
Возбуждение, вызванное визитом волшебника, улеглось, и люди снова сосредоточились на скудости урожая и странных болезнях скотины.
Калли-простак потерял трех новорожденных ягнят — дело почти неслыханное и потому ставшее предметом вечерних разговоров в кабаке. Не будь мои мысли настолько заняты волшебником, я бы встревожилась: не всплывут ли в памяти односельчан обстоятельства моего рождения, — но в тот момент мне было все равно.
— Знаю, — сказала я.
— Тебе все еще неможется?
— Все еще.
— Даже хуже стало?
Да, мне стало хуже. Я чувствовала себя нездоровой — и при этом мной владело возбуждение, беспокойство, хотелось то ли пуститься неуклюже бежать, то ли лягать свисавшие с крюков туши; хотелось делать что угодно, лишь бы избавиться от копившейся в ногах темной неистовой энергии.
— Ума не приложу, что делать.
— Па, я же не умираю, — сказала я, хотя, признаться, без особой уверенности. Я не знала, что чувствуешь, когда умираешь, но если тебе кажется, что ты в любой момент можешь упасть и не встать, если изнутри тебя переворачивает на жидкое черное месиво, то я не исключала, что умираю.
Такие мысли только усиливали мое беспокойство. Я отвратительно себя чувствовала, но при этом мне казалось, что я могу пробежать, не останавливаясь, тысячу миль1. Если только я побегу по направлению к нему.
Наверное, это было неизбежно. Может статься, именно так все эти волшебницы и волшебники обретали власть над людьми — заражали их, а потом уезжали, заставляя людей бежать за ними — как утята за уткой. Они даже не удосуживались хотя бы из вежливости схватить свою добычу и бросить ее в карету, как старину Дэва.
Раньше я думала, что сердце в обмен на процветание и мир — цена небольшая, но все становится совершенно иначе, если это твое собственное сердце.
Хотелось бы мне сказать, что я о многом передумала, вертела мысли в голове так и сяк, но это неправда. Я просто достигла точки, оставаться в которой было невозможно, как невозможно спокойно стоять в костре. И я поняла: надо идти.
Собираясь в дорогу, я тихо сквернословила. Меньше всего мне хотелось бросать Па в беде и отправляться в город, которого я никогда не видела, на поиски человека, которого ненавижу, человека, который пребывает бог знает где — и все-таки дергает и тащит меня, как крестьянин тащит свой большой тяжелый плуг.
Некоторое утешение мне доставляла мысль о том, что волшебник не получит того, за чем явился. Ему бы, наверное, хотелось поймать в свои сети какую-нибудь хорошенькую девицу, какую-нибудь Холли, но нет: его взгляд упал на меня — и вот она я, готовлюсь одолеть все королевство, чтобы отыскать его. Вот она я, Ваша Светлость.
Я воображала, какое у волшебника сделается лицо, когда он увидит, сколь благоуханное сердце добыл, и испытывала некоторое удовлетворение.
***
Я никому не сказала, что ухожу. Мне было стыдно признаться в этом даже себе. Па я оставила записку на разделочном столе: написала, что мне надо в город на несколько дней. Хотелось написать что-нибудь еще, но я не придумала, что сказать, как объяснить свой поступок.
Записка вышла небрежной и скупой, но оставила ее как есть; я надеялась, что быстро приведу себя в чувство и сразу вернусь. Но один раз я все-таки заглянула в его комнату. Па лежал в постели гора горой и свистел носом.
Я ухожу ненадолго, он и один управится в лавке. А если вдруг окажется, что волшебник, похитив сердце, нанес мне фатальную рану, если окажется, что меня перемололи в фарш или высосали мне душу, как мозг из кости, — Па найдет в деревне другую девицу, которая заменит меня в лавке.
А может, нет худа без добра. Если Па не надо будет тревожиться за меня, у него появится шанс на новую жизнь; может, он даже снова женится. Он еще не стар, у него могут быть и другие дети, рождение которых будет не столь ужасно, как мое. Дети, не обреченные стариться в его доме, превращаясь в злобную каргу.
Я старалась не думать, больно ли ему будет, когда он обнаружит, что я ушла.

1 миля = около 1609 м.
Глава 5
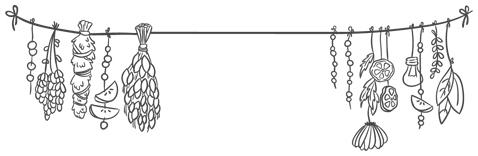
В ту ночь я за несколько часов сумела уйти от деревни достаточно далеко. Утром я не наткнулась ни на кого из знакомых и была избавлена от необходимости объяснять, что это взбрело мне в голову.
Первая же телега, которой я замахала, остановилась, и мужик, правивший лошадьми, даже помог мне влезть в набитую сеном повозку. Я скормила ему историю о заболевшей тетушке, ухаживать за которой меня отправили родственники.
Не знаю, поверил мне этот человек или нет, но он сжалился надо мной и пообещал довезти до города и даже до самого дома моей несуществующей тетки. Я объяснила, что точного адреса не знаю, мне велели поспрашивать на месте, и тут возница взглянул на меня с несколько странным выражением.
Я уже забыла, и какое это большое место — город, и каких трудов может стоить найти в городской толчее нужного человека — не то что в нашей деревне, где достаточно ухватить за шиворот первую же старуху, чтобы она выложила тебе все, что делается в этом проклятом месте.
Возница явно решил не вдаваться в расспросы. Я поняла это по быстрому взгляду, которым он окинул мой живот. Возница решил, что я «с начинкой», с деревенскими девушками такое случается, и бегу из родных мест, чтобы не навлечь позора на свою семью. Люди пускаются в путь, только если их, как его самого, гонит в дорогу необходимость доставлять товары или еще какая-нибудь крайняя нужда.
— Да ведь я не прямо в город еду, — сказал возница. — Мне сначала надо заехать кое-куда. Ты меня остановила на пути в одну из приграничных деревень. Может, хочешь подождать, найти еще кого?
Но я не могла ждать. Мне надо было двигаться дальше, чтобы муть в желудке и мозгах успокоилась.
— На сколько мы задержимся? — спросила я.
Возница пожал плечами:
— Самое долгое — на день.
Мне никогда еще не случалось бывать в деревнях, расположенных на границе. О них ходили странные слухи. Рассказывали, что сюда, поближе к границам королевства, перебирались жить изгои и странные типы, которые безвозвратно опорочили себя в родных местах; у этих людей могли иметься и другие причины сменить удобную жизнь в центре страны на жизнь в приграничных поселениях, отсталых и бедных.
Не знаю точно, почему границы королевства притягивали бродяг, да и никто, кажется, не знал, но все сходились на том, что отправляться туда без крайней надобности не стоит, а если уж отправился, то имей при себе крепкую палку, которой будешь отбиваться от подозрительных типов.
Возницы вроде моего, однако, процветали, доставляя в эти деревни разные товары: в приграничье по какой-то причине мало что произрастало. Почва, что ли, там была неплодородная. Виденные мною люди, уроженцы этих мест, тоже были хилые и тощие. Наверное, там вообще мало что росло хорошо.
Ходили и другие слухи — о неких темных силах, затаившихся у границ нашего королевства, но я не слишком верила этим россказням. Мне так нужно было отыскать того волшебника, что я предпочла бы добираться до города окольными путями, но с этим возницей, чем вообще не найти попутчика, который показался бы мне заслуживающим доверия.
Возница был человеком хмурым, но приличным, и у меня не было причин считать его опасным. К тому же он, если что, защитит меня. Далеко не каждого встречного я могла бы счесть надежным человеком, а положение было не настолько отчаянным, чтобы я решилась на ненужные риски. Пока еще не настолько.
***
По мере того как мы окольными тряскими дорогами подбирались к границе, деревни становились все грязнее и беднее. Я смотрела на них с интересом, поскольку до сих пор не выбиралась за пределы родной деревни. Дома из кирпича, скрепленного строительным раствором, сменялись домами из полусгнивших досок, а вместо дорог, вымощенных булыжником, потянулся грязный проселок в рытвинах.
Вдоль дороги тянулись поля с побуревшими злаками и паслись костлявые большеглазые коровы. Исхудавшие дети бежали за нашей телегой с протянутой рукой, выпрашивая монетку или конфету, но мне нечего было им дать.
Мы проезжали эти деревни не задерживаясь, пока не оказались наконец на границе королевства, в полных десяти часах езды от дома; возница остановил телегу возле облезлой таверны.
Я никак не могла взять в толк, почему деревня выглядит так странно. Да, она, подобно большинству приграничных селений, была неряшливой и нищенской, но странными были сами постройки, их углы и общий вид. Казалось, дома сейчас то ли убегут, то ли зарычат, как блохастые бездомные собаки, которых слишком часто пинали.
Возница прочистил горло. Он так редко что-то говорил, что я тут же навострила уши.
— На ночь я здесь не останусь, — объявил возница. — Отправляемся сразу после ужина. Поспать можешь в телеге.
Меня ждет ночь на сене после того, как я весь этот чертов день просидела на сене. Вот счастье-то. Но пару монет мне такой ночлег сэкономит.
— Мы что, запаздываем? — спросила я.
— Нет. — Возница потер нос. — Не люблю ночевать здесь, вот и все. Всегда проезжаю не задерживаясь.
— А почему вы не любите здесь останавливаться? — Я осмелела: в первый раз за всю дорогу он так разговорился.
— Не люблю, и все. И никто не любит.
Возница явно окончил беседу, так что я тоже затихла. Зато в благодарность за то, что подвез, помогла ему выгрузить несколько ящиков с овощами. Возница, похоже, приятно удивился тому, насколько мои руки сильные.
Я спросила, есть ли у меня время размяться, и он кивнул, но велел вернуться в течение часа: он намеревался свернуть торговлю как можно скорее.
Деревня пугала, и мне не хотелось забредать слишком далеко. Я быстро обошла вокруг таверны, просто чтобы проветрить мозги, и, отдуваясь, присела на деревянный ящик.
Я убедилась, что телегу хорошо видно — на случай, если со мной случится беда. Не знаю, каких бед я себе навоображала, но от всей этой деревни просто несло опасностью, неопределенной и потому особенно тревожащей.
Со всех сторон меня окружали окна домов; свет заходящего солнца отражался от них странным, бессвязным образом, и ряд окон походил на улыбку, в которой недостает зубов. Немногочисленные прохожие шли, опустив головы и сосредоточенно разглядывая собственные башмаки. Меня пробирала дрожь.
Выругав себя за ребяческие страхи, я встала и как можно увереннее зашагала вперед. Мне надо размять ноги — впереди неприятная ночь в переполненной телеге, где я буду зажата между жесткими ящиками и колючим сеном. И какой бы скверной ни казалась мне эта деревня, если я сейчас упущу возможность размять ноги, то потом пожалею.
Я обнаружила, что тихонько насвистываю — не столько для удовольствия, сколько из-за желания слышать хоть какие-то звуки, и пошла между постройками, придерживаясь главной дороги и освещенных мест.
Внезапно я оказалась на окраине деревни. Обычно дома сходят на нет от центра к околице, становятся все меньше, отстоят друг от друга все дальше и наконец исчезают в полях.
Но эта деревня просто… закончилась. Даже дорога истощилась, оборвалась сразу за тенью последнего дома. Зазоры между несколькими последними булыжниками щедро поросли одуванчиками. В грязи, все еще тускло освещенной последним газовым фонарем, не отпечатались ни колеса, ни копыта.
Тут я сообразила, что в этой деревне исключительно много газовых фонарей для такого бедного, даже нищего места, а дороги здесь освещены лучше, чем в моей родной деревне. Как будто здешние жители боятся темноты.
Я вгляделась в сгущающийся мрак, где самым ужасным были поля и силуэты коров, но по покалыванию в затылке поняла: дальше ходить не стоит. Прищурившись, я разглядела на горизонте густой, закручивающийся воронкой туман, бледный на фоне темноты. Казалось, что сила волшебниц не дотягивается до этих глухих мест.
Хорошо, что мы уезжаем отсюда.
***
После этого мы каждую ночь останавливались, чтобы дать отдых лошадям и себе. У меня было немного монет, и на ночь я снимала комнату в самой недорогой гостинице, какую только могла найти, — тускло освещенную и дурно пахнущую, где на меня со стен взирали портреты короля, исполненные с разной степенью искусности.
Возница, я уверена, ночевал в каком-нибудь месте получше, но где — я не знала. В конце каждого дня он помогал мне слезть с телеги, отряхивал руки от сена и, громко топая, уходил, предоставляя мне идти куда вздумается.
Каждое утро я в панике просыпалась, наскоро плескала себе в лицо водой и мчалась к телеге, боясь, что он уехал без меня. Но возница всегда дожидался. Всегда помогал забраться в телегу — ворчливый, но вежливый. Все могло быть куда хуже.
Вечером четвертого дня возница крикнул через плечо, что мы почти на месте: потянулась последняя перед городом деревня
...