автордың кітабын онлайн тегін оқу Отчет

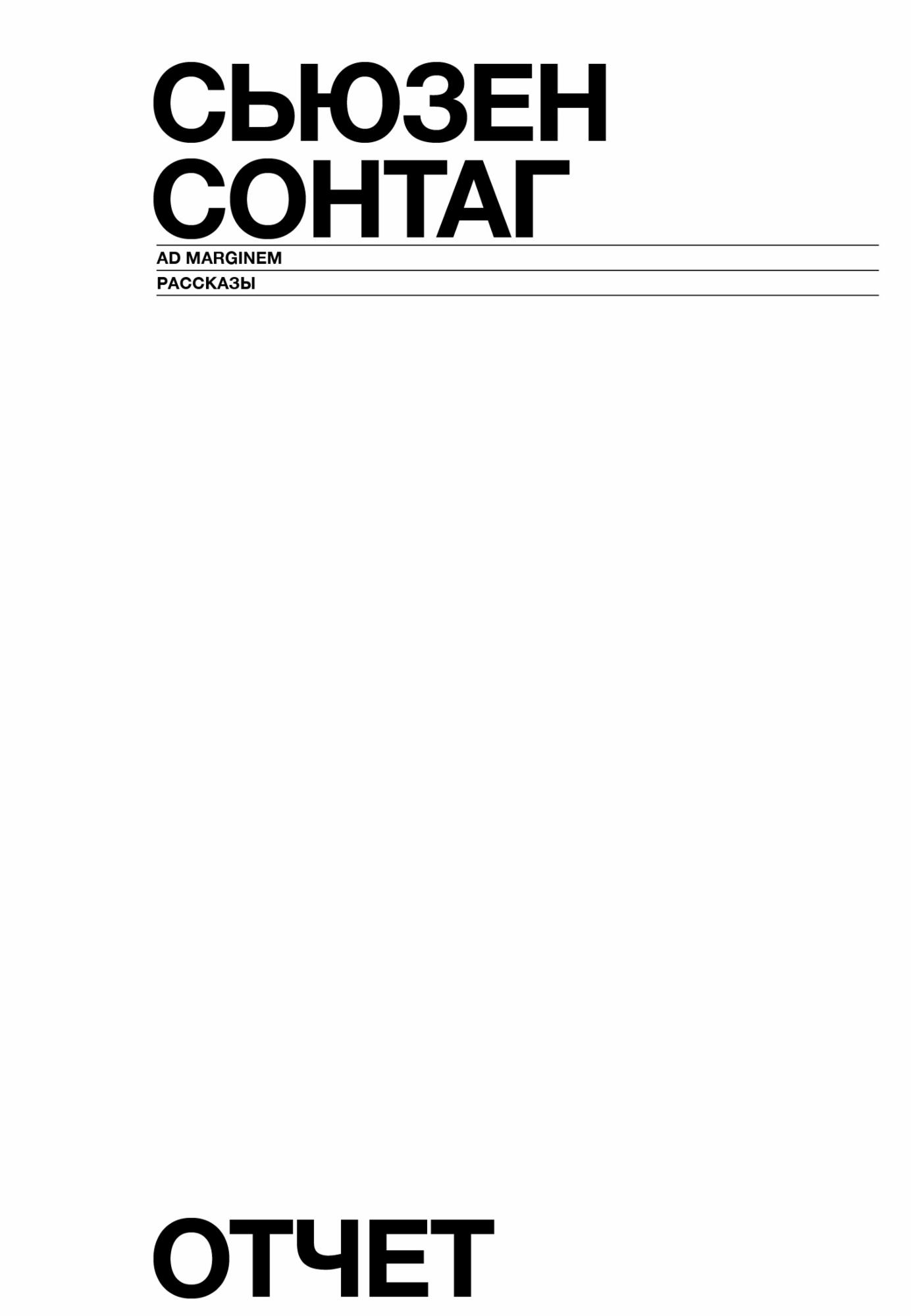

ПРЕДИСЛОВИЕ
Бенджамин Тейлор
К форме рассказа Сьюзен Сонтаг обращалась нечасто, от случая к случаю, когда испытывала непреодолимую тягу выплеснуть эмоции.
В каждом из вошедших в сборник одиннадцати произведений идет своего рода борьба за постижение истины: за сильным переживанием следует своеобразный отчет: попытка осмысления. Причем откровения даются писательнице нелегко. Познакомившись с ними, особенно с глубоко личными, читатель поймет почему.
Великий мастер рассказа Антон Чехов говорил: «У меня автобиографофобия» — состояние, в полной мере присущее Сьюзен Сонтаг.
В таких мастерских работах, как «Планы поездки в Китай», «Отчет», «Путешествие без гида» и других, ей удалось преодолеть врожденную скрытность. Груз переживаний, которые несут эти рассказы: смерть отца, самоубийство друга, угроза смертельной болезни — отделяет их от многочисленной и более привычной для нее эссеистики. Последняя известна лучше, но тем, кто хочет ближе узнать Сонтаг, следует обратиться к ее рассказам. В интервью она как-то призналась, что эссе вполне можно писать в гостиной, но для рассказов подходит более укромный уголок — спальня. Различие рабочих кабинетов — внешнего и внутреннего святилищ — позволит глубже вникнуть в содержание этой книги. Рассказы посвящены самому сокровенному.
Некоторые критики считают, что рассказы Сонтаг можно назвать очерками о личном. Такое мнение несколько искажает суть. Сонтаг рассматривала эссе как способ выражения мыслей, выводов, умозаключений. Рассказы же возникали из желания оставаться в подвешенном, неопределенном состоянии, сохранять противоречия, но тем не менее эта неразрешимость приносила плоды.
«Я охотно согласилась бы молчать, — пишет она в „Планах поездки в Китай“, — но тогда, увы, невелика вероятность познать хоть что-то. Отказ от литературы был бы возможен, только если б я пребывала в полной уверенности, что смогу познать всё». То приговаривающий, как в «Малыше» или «Американских духах», то проникновенный, как в «Путешествии без гида», в «Так теперь и живем», равно как и в «Планах», голос ее неизменно лаконичен, резок, предельно выверен. «Сизиф — вот кто я, — пишет она в „Отчете“. — Цепляюсь за свой камень — приковывать меня необязательно. Посторонитесь! Я качу свой камень в гору, всё выше, всё выше, всё выше. И… мы с ним скатываемся вниз. Так я и знала. Смотрите, я снова встаю. Смотрите, я снова начинаю катить его в гору. Не пытайтесь меня отговорить. Ничто, ничто на свете не сможет оторвать меня от этого камня». Стремясь к большей неопределенности, чем это позволяют эссе, Сонтаг время от времени прибегала к форме, которая не требует окончательных и бесполезных решений: бесконечно гибкому, всегда податливому рассказу.
Впервые эти рассказы появились в журналах Partisan Review, Harper’s Bazaar, American Review, Playboy и The New Yorker; теперь они собраны воедино. Не исключено, что новое поколение читателей, менее обеспокоенное проблемами жанра, чем их предшественники, сочтет эти рассказы вполне современными. Сонтаг, как обычно, опережает время.
ПАЛОМНИЧЕСТВО
PILGRIMAGE
Перевод С. Силаковой
Все обстоятельства моей встречи с ним окрашены в цвет стыда.
Декабрь 1947 года. Мне четырнадцать, меня переполняют страстный восторг перед реальным миром и нетерпеливое желание в него переселиться, как только я выйду на свободу после долгого тюремного срока — своего детства.
Конец срока смутно брезжит. Я уже в предпоследнем классе средней школы, аттестат зрелости получу еще до своего шестнадцатилетия. И тогда-то, тогда-то… события развернутся по-настоящему. А тем временем жду, отбываю срок (мне пока четырнадцать!) после недавнего этапирования из пустынь Южной Аризоны на побережье Южной Калифорнии. Опять новая обстановка со свежими возможностями для побега, и я их приветствую. Моя мать, вдова-перипатетик, вроде бы, наоборот, перешла к оседлости, в 1945 году выйдя замуж вторично за красавца с боевыми наградами и боевыми ранениями — аса ВВС США, который после года в госпиталях (его самолет сбили на шестые сутки после Дня «Д») был передислоцирован в целительную пустыню. Годом позже наше новосколоченное семейство (мать, отчим, младшая сестра, собака, няня-ирландка на символическом жалованье — осколок нашей прежней жизни, плюс жиличка-иностранка, то есть я) покинуло оштукатуренное бунгало у грунтовой дороги за окраиной Тусона (где в наш круг влился капитан Сонтаг) ради уютного коттеджа со ставнями на окнах, с живой изгородью из розовых кустов и тремя березами у въезда в долину Сан-Фернандо, где я сейчас притворяюсь домоседкой на время этой факсимильной семейной жизни и остатка своего неубедительно имитируемого детства. По выходным во дворе отчим — военную форму он снял, но бодряком остался — командует барбекюшницей, туго оборачивает фольгой говяжье филе и сдобренную сливочным маслом кукурузу; я ем, ем, ем, да и как не есть, когда видишь, что твоя угрюмая, костлявая мать возит свою порцию по тарелке? Его воодушевление несет не меньшую угрозу, чем ее апатия. Разве смогут они начать играть в семью теперь — слишком поздно! Я выруливаю на взлет, хотя с виду — всё та же старшая дочка, дылда с детским личиком, упоенно обкусывающая четвертый початок кукурузы; я уже упорхнула. (По-французски можно, если невольно замешкаешься, сказать: «Je suis moralement partie» [1].) Еще немножечко, последний отрезок детства. Впредь до изменения обстоятельств (о, этот термин военного времени, первая модель поведения, научившая меня ради светлого будущего снисходительно терпеть настоящее) — впредь до изменения обстоятельств простительно изображать, что мне хорошо на их вечеринках, избегать конфликтов, уплетать их еду. Если честно, конфликтов я боялась. А голодна была постоянно.
Мне казалось, что в собственной жизни я туристка — аристократка, навещающая трущобы. Главное, велела я себе, держаться подальше от дребедени (мне казалось, что в дребедени я утопаю): от жизнерадостного пустозвонства одноклассников и учителей, от тошнотворного брома разговоров, которые я слышала дома. От еженедельных комедийных сериалов, куда для оживления добавляли закадровый смех, от слащавого «Хит-парада», от истеричных репортажей с бейсбольных матчей и чемпионатов по боксу; радио надрывалось в гостиной каждый вечер в будни и почти с самого утра до ночи по выходным, что было для меня нескончаемой пыткой. Я скрипела зубами, накручивала волосы на пальцы, грызла ногти, держалась вежливо. Новые, трайбалистские радости детства в благополучном пригороде, вскоре поглотившие мою сестру, меня не привлекали, но я не считала, что пришлась здесь не ко двору. Полагала: приветливость, служившую мне панцирем, все считают искренней. (Из этого ясно, что я — девочка.) Мнение других людей обо мне мало меня заботило, так как я находила, что другие поразительно слепы и вдобавок нелюбознательны; я же рвалась познать всё, немало огорчаясь, что все, кто (пока) попадались на моем пути, на меня в этом не похожи. Я была уверена: таких, как я, полным-полно, просто живут они не здесь. И никогда не опасалась, что меня остановит какое-то препятствие.
Отчего я не хандрила и не дулась? Не только из-за убежденности в тщете стенаний. Всё проще: оборотной стороной моего недовольства жизнью, а точнее, его коренной причиной на протяжении всего детства был экстаз. Экстаз, которым мне было не с кем поделиться. Экстаз, неуклонно нараставший: после переезда в Калифорнию приступы ликования случались чуть ли не каждый вечер. Дотоле ни в одном из восьми жилищ, которые я успела сменить, — ни в квартирах, ни в домах — у меня не было своей комнаты. А тут появилась, хотя я даже не просила. Моя собственная дверь. Теперь, когда меня отсылали спать и приказывали потушить свет, можно было часами читать с фонариком, положив книгу прямо на одеяло: отпала необходимость прятаться в шатре из простыней.
Бес чтения вселился в меня в раннем детстве (читать — значило вонзать кинжал в их жизнь), и я практиковала самый разнузданный читательский промискуитет: волшебные сказки и комиксы (собрание комиксов у меня было гигантское), «Комптоновская энциклопедия», «Близнецы Бобси» и другие циклы издательства Stratemeyer, литература по астрономии, химии и китаеведению, биографии ученых, все путевые заметки Ричарда Халлибертона, довольно много классики, в основном викторианской. А потом, в деревеньке, которая в 40-е годы ХХ века служила центром Тусона, я забрела в дальний угол магазина писчебумажных товаров и открыток и свалилась в глубокий колодец «Современной библиотеки» [2]. Ее тома стали для меня эталоном, а перечни опубликованных книг на четвертой сторонке обложки — первым списком рекомендованной литературы. Мне оставалось лишь покупать их и читать (тонкие — за девяносто пять центов, «Гиганты» — за доллар двадцать пять) и с каждой прочитанной книгой чувствовать, как мои горизонты раздвигаются, подобно плотницкой рулетке. А в Лос-Анджелесе в первый же месяц после переезда я отыскала настоящий книжный, первый объект моей безумной любви к книготорговым точкам, пронесенной через всю жизнь, — Pickwick на Голливудском бульваре; раз в два-три дня я шла туда после уроков, чтобы прочитывать стоя всё больше произведений мировой литературы, покупать их, когда хватало средств, или воровать, когда хватало дерзости. За каждую кражу я расплачивалась долгими неделями самобичевания и страха перед грядущими унижениями, но что мне оставалось делать, когда карманных денег мне выдавали всего ничего? Странно, что мне в голову не приходило пойти в библиотеку. Я должна была приобретать книги, видеть их ряды вдоль стены моей каморки. Это были мои домашние божки. Мои космические корабли.
Днем я рыскала в поисках сокровищ — никогда не любила из школы сразу возвращаться домой. Но в Тусоне самым отрадным из придуманных мною способов поволынить, если не считать вылазок в писчебумажный магазин, была загородная прогулка, по Старой Испанской Тропе к предгорьям Танк-Верде: разглядывай вблизи самые грозные сагуаро и опунции, высматривай под ногами змей и наконечники стрел, набивай карманы красивыми камнями, воображай, что сбилась с пути или одна уцелела из всего отряда, жалей, что ты не индианка. Или что ты не Одинокий Рейнджер [3]. Здесь, в Калифорнии, старательские угодья были иные, и я стала Одиноким Рейнджером другого типа. После уроков чуть ли не каждый день садилась в трамвай на Чендлер-авеню, спешила не убраться из города, а, наоборот, в него углубиться. В пределах нескольких кварталов от зачарованного перекрестка Голливудского бульвара с Хайленд-авеню располагалась моя маленькая агора со зданиями в один-два этажа: Pickwick, музыкальный магазин, где, с разрешения хозяев, я каждую неделю проводила долгие часы в кабинках с наушниками, заслушиваясь до умопомрачения их ассортиментом; газетная лавка с мировой прессой, где, упорно пролистывая всё подряд, я открыла для себя Partisan Review, Kenyon Review, Sewanee Review, Politics, Accent, Tiger’s Eye, Horizons; торгово-офисный комплекс, куда я вошла в незапертую дверь, беспардонно увязавшись за двумя людьми, красивыми в дотоле неизвестном мне смысле; думала, за дверью спортзал, а оказалось — репетиционное помещение балетной труппы Лестера Хортона и Беллы Левицки. О, золотой век! Не просто золотой — я и сама уже тогда поняла: «Это же золотой век». Скоро я начала пить из сотни соломинок разом. Дома, в собственной комнате сочиняла эпигонские рассказы и вела настоящие дневники; составляла списки слов, раскармливая свой лексикон, и вообще списки чего угодно; самолично дирижировала, крутя пластинки; каждый вечер зачитывалась до рези в глазах.
А скоро и друзьями обзавелась, причем, к моему удивлению, они были не намного старше меня. С ними можно было поговорить, пусть и не обо всех, но хотя бы о некоторых вещах, поглощавших мое внимание, доводивших меня до экстаза. Я не надеялась, что друзья будут такими же начитанными, как я, — лишь бы охотно читали всё, что я им одалживала. А в музыке я сама была неофиткой, и это было даже лучше, верх блаженства! Именно желание учиться у других — а утолить его мне было еще труднее, чем желание делиться своими знаниями и восторгами, — помогло мне обрести первых друзей. Они учились в выпускном, двенадцатом классе моей новой школы, а я, придя учиться в десятый, буквально вешалась им на шею. Музыкальный вкус у них был развит намного лучше. Мои друзья не только прекрасно играли на музыкальных инструментах — Элейн на флейте, Мэл на рояле, — но и сызмальства росли здесь, в Южной Калифорнии, куда нахлынули бежавшие от войны виртуозы. Эти музыканты играли в полных симфонических оркестрах крупных киностудий, а по вечерам исполняли классическую и современную камерную музыку в небольших залах, рассеянных по разным районам на площади сто квадратных миль. Элейн и Мэл принадлежали к их завсегдатаям — к публике, чей вкус сложился и стал до чудаковатости разборчивым под влиянием высокой музыкальной культуры Лос-Анджелеса 40-х годов ХХ века. Она делила музыку на камерную и всю остальную (опера стояла на шкале качества столь низко, что даже упоминаний не заслуживала).
Каждый мой друг был для меня лучшим другом; я и не знала, что может быть иначе. Были мои музыкальные менторы, осенью следующего года поступившие в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, а еще был собрат-десятиклассник. В последние два школьных года он был для меня товарищем с романтическим уклоном, а потом вместе со мной поехал учиться в колледж, который я еще в тринадцать лет провозгласила своей судьбой, — Колледж Чикагского университета. Петер, беженец (наполовину венгр, наполовину француз), потерял отца, вынужденные кочевья повлияли на его жизнь еще сильнее, чем на мою. Его отца арестовало гестапо, Петер с матерью бежали из Парижа на юг Франции, а оттуда, через Лиссабон, в 1941 году добрались до Нью-Йорка; проучившись несколько лет в школе-пансионе в Коннектикуте, он воссоединился здесь с решительно незамужней, загорелой, рыжеволосой Геней (я признавала, что выглядит она так же молодо, как моя мать, если и уступает ей в красоте). Дружба началась в школьной столовой с взаимного хвастовства случаями из жизни наших отцов, погибших эффектной смертью. Это с Петером я спорила о социализме и Генри Уоллесе [4], с Петером держалась за руки и плакала, когда мы смотрели «Рим — открытый город», «Пасторальную симфонию», «Детей райка», «Девушек в униформе», «Жену булочника», «Короткую встречу» или «Красавицу и чудовище» в кинотеатре зарубежного фильма Laurel, на который мы набрели вместе. Мы мчались на велосипедах по каньонам и парку Гриффит, катались в обнимку по земле в зарослях сорняков. Насколько припоминаю, у Петера было три великих любви: его мать, я и его гоночный велосипед. Он был темноволосый, тощий, нервный, долговязый. Во всех школах я хоть и была самой младшей в классе, но непременно оказывалась выше всех девочек и почти всех мальчиков, а несмотря на экзотическую независимость моих суждений о высоких материях, мои взгляды на физический рост оставались в плену стереотипов. Моему парню полагалось быть не только моим лучшим другом, но и выше меня ростом, а этому критерию отвечал только Петер.
Другой обретенный мною лучший друг тоже учился в десятом, но в другой школе, и тоже собирался за компанию со мной в Чикагский университет. Звали его Меррил. Модно одетый, крепко сложенный блондин со всеми внешними атрибутами «неотразимого», «умереть — не встать», «симпампончика», но мой глаз-алмаз вмиг распознавал даже самых хорошо закамуфлированных одиночек, и я сразу поняла, что Меррил еще и умен. По-настоящему умен. А значит, способен держаться особняком. Голос у него был низкий, ласковый, улыбка застенчивая, иногда он улыбался одними глазами. Из всех моих друзей лишь Меррил меня завораживал. Как же мне нравилось на него смотреть! Хотелось слиться с ним, или чтобы он со мной слился, но я поневоле склонялась перед непреодолимой помехой: Меррил был на несколько дюймов ниже меня ростом. Задумываться о других помехах было менее приятно. Иногда Меррил бывал скрытен, расчетлив (даже в буквальном смысле — в разговоре сыпал числительными), порой я находила, что он недостаточно пылко относится к тому, что пылко волнует меня. На меня производила большое впечатление его практичность: когда я горячилась, он сохранял спокойствие. Я не могла понять, как он на самом деле относится к родным, а семья у него была, казалось, никоим образом не факсимильная: мать, отец (родной), младший брат (в некотором роде вундеркинд-математик), даже бабушки и дедушки в комплекте. Меррил не любил говорить о чувствах, а меня распирало желание ими делиться: правда, я делала упор не на себе, а на предмете своего восхищения или возмущения.
В увлечениях мы были хорошим тандемом. Вначале заболели музыкой: Меррил много лет брал уроки игры на фортепиано. Его брат играл на скрипке, чему я завидовала не меньше, хотя сама хотела освоить именно фортепиано, упрашивала мать нанять мне учителя — точнее, уже несколько лет как бросила упрашивать. Меррил подсказал мне, как бесплатно посещать концерты — летом наниматься в билетеры в Hollywood Bowl, — а сам с моей подачи стал завсегдатаем цикла понедельничных концертов камерной музыки «Вечера на крыше», куда меня привели Элейн и Мэл. Мы неторопливо формировали наши почти неотличимые идеальные собрания пластинок (на семьдесят восемь оборотов, в блаженном неведении о том, что год спустя появятся долгоиграющие диски) и часто слушали их на пару в прохладных темных кабинках музыкального магазина Highland. Иногда он приходил ко мне в гости, даже когда мои родители были дома. Или я приходила к нему; помнится, мне было неловко слышать имя его старомодно одетой, гостеприимной матери. Хани! Всё равно что зваться Лапочкой!
Уединялись мы в машинах. У Меррила были самые настоящие водительские права, у меня — юношеские; в тогдашней Калифорнии такие выдавали детям четырнадцати — шестнадцати лет, по ним дозволялось водить только машины родителей. Впрочем, разница нивелировалась тем, что ни у меня, ни у Меррила не было доступа к другим машинам, кроме родительских. Вечерами мы пристраивали синий шеви его родителей или зеленый понтиак моей матери где-нибудь на обочине Малхолланд-драйва, как на насесте, и, в упор не видя парочек, которые сношались в припаркованных автомобилях по соседству, предавались нашим собственным утехам. Перебрасывались музыкальными темами, напевая их друг другу дискантом, с приблизительной точностью: «Ну а эта? Послушай. Что это?» Экзаменовали друг друга по каталогу Кёхеля [5]: мы оба затвердили длинные фрагменты этого списка, насчитывающего шестьсот двадцать шесть названий. Спорили о сравнительных достоинствах квартета Буша и Будапештского квартета (к тому времени я заделалась фанатичной поборницей Будапештского), обсуждали, не аморально ли покупать Дебюсси в исполнении Гизекинга в свете того, что Элейн и Мэл рассказали мне о его нацистском прошлом. Пытались внушить себе, что нам понравилась игра Джона Кейджа на препарированном фортепиано в минувший понедельничный «Вечер на крыше»; а также решали, сколько лет подарить Стравинскому.
Эта проблема вставала перед нами снова и снова. К лязгу и скрежету Джона Кейджа мы относились уважительно, зная, что неблагозвучную музыку положено ценить; так же преданно мы слушали Тоха, Кшенека, Хиндемита, Веберна, Шёнберга, кого угодно (аппетиты у нас были ненасытные, уши — луженые). А вот искреннюю любовь питали к Стравинскому. И, поскольку он казался нам гротескно-дряхлым (мы видели Стравинского своими глазами два раза на понедельничных концертах в маленьком зале театра Wilshire Ebell, где его произведениями дирижировал Ингольф Даль), наш страх за его жизнь породил неотразимо увлекательную грезу à deux [6] о смерти за кумира. Вопрос, который мы частенько обсуждали, формулировался так: на каких условиях мы согласимся на самопожертвование, о котором упоенно фантазируем? На сколько лет должна продлиться жизнь Стравинского, чтобы наша смерть, немедленная, на этом самом месте, не казалась напрасной?
На двадцать лет? Само собой. Но решение слишком простое и — единодушно заключали мы — слишком оптимистичное. Подарить двадцать лет уродливому старцу, каким был в наших глазах Стравинский, — нет, такое было немыслимо ни для меня в четырнадцать лет, ни для Меррила в 1947-м, в его шестнадцать. (Как здорово, что в реальности И. С. прожил даже дольше.) Требовать для Стравинского целых двадцать добавочных лет взамен на жизнь нас обоих — слишком слабое доказательство нашей пламенной преданности.
Пятнадцать добавочных лет? Безусловно.
Десять? Спрашиваешь?!
Пять? Мы начинали колебаться. Но не согласиться — равносильно неуважению, недостаточно сильной любви. Что значит моя жизнь или жизнь Меррила, и не только блеклая жизнь двух калифорнийских старшеклассников, а изобильная на достижения жизнь полезных граждан, ожидавшая нас, как нам казалось, впереди, по сравнению с еще пятью годами творчества Стравинского на радость миру? Ладно уж, пять.
Четыре? Я вздыхала. «Давай дальше, Меррил».
Три? Отдать жизнь за каких-то три лишних года?
Обычно мы останавливались на четырех, самое малое на четырех. Да, чтобы подарить Стравинскому еще четыре года, мы оба, я и Меррил, были готовы умереть прямо в этот миг, на этом самом месте.
Книги и музыка — чувство триумфа благодаря тому, что чувствуешь себя кем-то другим, не собой. Авторы почти всего, чем я восторгалась, уже умерли (или уже очень стары) или родились не здесь, в идеале — в Европе; этот факт я принимала как неизбежность.
Я накапливала божеств. Тем, чем в музыке был для меня Стравинский, в литературе стал Томас Манн. В своей пещере Аладдина, в Pickwick, 11 ноября 1947 года (в этот самый миг, взяв с полки книгу, нахожу дату на форзаце, написанную безотрывным почерком, — я в нем тогда упражнялась) я купила «Волшебную гору».
Раскрыла в тот же вечер, и в первые несколько вечеров от чтения перехватывало горло. Для меня она стала не просто любимой книгой, а одной из книг, перевернувших мою жизнь, источником открытий и догадок. В мою голову хлынула вся Европа — правда, при условии, что я начну ее оплакивать. А чахотка — немножко стыдная (как намекала моя мать) болезнь, которая давным-давно в экзотической дали прикончила моего настоящего, почти невообразимого отца, но после нашего переезда в Тусон стала казаться широко распространенным несчастьем, — открылась мне как высший символ интереса к скорби и духовной жизни! Высокогорное сообщество тяжелобольных с изъеденными легкими было вариацией (облагороженной) живописного, дорожащего своим климатом курортного городка с сорока десятками клиник и санаториев в пустыне, куда моя мать вынужденно переселилась ради ребенка-астматика — ради меня. На волшебной горе персонажи были идеями, идеи — страстями, как, по моему извечному разумению, и должно быть. Но идеи как таковые поочередно увлекали меня ввысь, затягивали в свои миры: восторженность гуманиста Сеттембрини так же настоятельно, как угрюмость и насмешливость Нафты. А мягкий, добродушный, целомудренный сирота Ганс Касторп, главное действующее лицо романа Манна, — о, это был герой моей души, герой мне по сердцу, по моему беззащитному сердцу, не в последнюю очередь благодаря тому, что он был сирота, а мое воображение было целомудренным. Меня завораживало то, с какой Манн нежностью,
хотя и с примесью снисходительности рисует его образ: слегка простоватый, не в меру серьезный, послушный юноша с посредственными способностями (себя я тоже считала посредственностью, если судить без поблажек). С нежностью. Пусть Ганс Касторп — истинный паинька (ужасающее обвинение, которое мне однажды предъявила мать), что с того? Этим он и отличается от других, он им не чета. Мне это до боли знакомо: пиетет, ставший его жизненным призванием, его затворничество. Ганс словно бы носил с собой этакую хижину отшельника и, пребывая среди других, учтиво уединялся. Его жизнь состояла из тягостных рутинных обязанностей (полезных ему, по мнению опекунов) вперебивку с вольными, страстными разговорами — один в один мой тогдашний распорядок дня, блистательно транспонированный в мир книги!
На месяц я переселилась в книгу. Прочла ее от корки до корки почти стремглав: возбуждение взяло верх над желанием неторопливо смаковать детали. Правда, мне пришлось притормозить на страницах 334–343, когда Ганс Касторп и Клавдия Шоша наконец-то заговаривают о любви, но на французском, на языке, которого я еще ни дня не изучала; впрочем, я решила не упустить ни одной фразы, приобрела французско-английский словарь, каждое сказанное ими слово отыскала в словаре. Когда я дошла до последней страницы, мне не захотелось разлучаться с книгой, и я вернулась к началу и, навязав себе темп, которого «Волшебная гора» заслуживала по справедливости, стала перечитывать вслух, по главе за вечер.
Следующий шаг — дать ее почитать другу, ощутить, какое наслаждение она приносит другому, полюбить ее вместе с другим, изыскать возможность про нее поговорить. В начале декабря я дала «Волшебную гору» Меррилу. И Меррил — он немедля прочитывал всё, что я ему подсовывала, — тоже ее полюбил. Отлично!
А затем Меррил сказал: «Давай к нему сходим, почему бы нет?» И тут моя радость обернулась стыдом.
Я, естественно, знала, что он живет здесь. В 40-е годы ХХ века воздух Южной Калифорнии искрился от присутствия самых разных, на любой вкус, знаменитостей; мои друзья и я знали, что где-то рядом ходят по улицам не только Стравинский и Шёнберг, но и Манн, Брехт (совсем недавно я была в театре на Беверли-Хиллз на «Жизни Галилея» с Чарльзом Лоутоном в главной роли), Ишервуд, Хаксли. Но перемолвиться с ними словом?.. Для меня это было столь же немыслимо, как предположение, что я могу поболтать с Ингрид Бергман или Гэри Купером, тоже обитавшими по соседству. Точнее, вероятность была еще ниже. Когда в кинодворцах на Голливудском бульваре устраивали премьеры, кинозвезды выходили из лимузинов на озаренный софитами тротуар, рискуя, что их сметет волна поклонников, напирающая на заграждения; эти явления народу я видела в кинохронике. Напротив, боги высокой культуры, покинув Европу, высадились на наши берега, чтобы жить почти инкогнито среди лимонных деревьев, спасателей с пляжа, зданий в стиле необаухаус и гамбургеров «Фантазия»; я была твердо уверена, что этим богам не след иметь поклонников или кого-то наподобие и негоже беспардонно вторгаться в их частную жизнь. Правда, Манн, в отличие от других изгнанников, был публичной фигурой. Тот факт, что в конце 30-х и первой половине 40-х годов ХХ века Томас Манн удостоился в Америке столь грандиозных официальных почестей, — вероятно, достижение еще более невероятное, чем звание самого знаменитого писателя в мире. Манна приглашали в Белый дом, а когда он выступал в Библиотеке Конгресса, его представил публике сам вице-президент США. Манн годами неутомимо колесил по стране с лекциями; в прекраснодушной рузвельтовской Америке Манн был в статусе оракула, возвещавшего, что гитлеровская Германия — абсолютное зло, а победа демократических стран не за горами. Его желание и талант быть полномочным представителем своей культуры не ослабевали даже в эмиграции. Если вообще существовала некая хорошая Германия, теперь ее можно было найти в нашей стране (а значит, что Америка тоже хорошая), олицетворенную в личности Манна; если вообще существовал хотя бы один Великий Писатель, крайне далекий от «писателя» в представлениях американцев, то был Манн.
Но, когда «Волшебная гора» возносила меня ввысь, я не задумывалась о том, что ее автор в буквальном смысле здесь, рядом. В утверждении «В то время я жила в Южной Калифорнии и Томас Манн жил в Южной Калифорнии» глагол «жить» употреблен в двух совершенно разных значениях. Где бы ни находился тогда Манн, он был определенно совсем не там, где я. В Европе. Или в мире за пределами детства, в мире серьезных вещей. Нет, даже не так. Для меня Манн был книгой. Точнее, книгами — в те дни я углубилась в «Рассказы за тридцать лет». Когда мне было девять (в детстве, по моим меркам), я прожила долгие месяцы, скорбя, нервно дожидаясь развязки, в романе «Отверженные». (Глава, где Фантина вынуждена продать свои волосы, сделала меня сознательной социалисткой.) Для меня Томас Манн, будучи попросту бессмертным, не числился среди живых точно так же, как покойный Виктор Гюго.
Отчего вдруг я захотела бы с ним познакомиться? У меня есть его книги.
Я не хотела с ним знакомиться. Меррил пришел ко мне домой, дело было в воскресенье, родителей не было дома, и мы в их спальне разлеглись на их белом атласном покрывале. Как я ни умоляла, Меррил притащил телефонную книгу, раскрыл на букве «М».
— Видишь? Он есть в телефонной книге.
— Даже видеть не хочу!
— Смотри!
Он заставил меня заглянуть в книгу. Ужаснувшись, я увидела: 1550, Сан-Ремо-драйв, Пасифик-Палисейдс.
— Дурацкая мысль. Хорош, прекращай!
Я спрыгнула с кровати. Мне не верилось, что Меррил затеял это взаправду. Но он не отступался.
— Звоню.
Телефон стоял на тумбочке с той стороны кровати, где спала моя мать.
— Меррил, перестань!
Он снял трубку с рычага. Я дала деру — промчалась через весь дом, выскочила из никогда не запиравшейся передней двери, пересекла газон и тротуар, обогнула припаркованный у бровки понтиак с вставленным ключом зажигания (а где еще прикажете держать ключи от машины?) и на середине мостовой застыла, заткнув уши, словно даже оттуда было слышно, как Меррил — это ж со стыда сгореть, даже помыслить невозможно — звонит «ему».
«Какая же я трусиха», — подумала я далеко не в первый и не в последний раз в жизни; но дала себе еще несколько минут, надсадно дыша, пытаясь вернуть самообладание, прежде чем отняла ладони от ушей и вернулась восвояси. Неторопливо.
Сразу за парадной дверью была маленькая гостиная, обставленная раннеамериканскими вещами, как их называла мать, вещами, которые она никоим образом не коллекционировала. Тишина. Я прошла через гостиную в столовую, потом свернула в недлинный коридор, который вел мимо моей комнаты и двери родительской ванной в родительскую спальню.
Трубка лежала на рычаге. Меррил сидел на краю кровати, ухмыляясь.
— Послушай, это не остроумно, — сказала я. — Я думала, ты действительно собираешься это сделать.
Он махнул рукой:
— Уже.
— Что «уже»?
— Сделал, — сказал он всё с той же ухмылкой.
— Позвонил?
— Он ждет нас к чаю в следующее воскресенье в четыре.
— Нет! Ты не звонил!
— Но почему я не должен был звонить? — возразил он. — Всё прошло гладко.
— И ты с ним разговаривал? — У меня наворачивались слезы. — Как ты мог?
— Нет, — сказал он, — к телефону подошла его жена.
Я вызвала в воображении образ Кати Манн, почерпнутый с фото Манна в кругу семьи, которые я видела. Значит, его жена тоже существует? Быть может, если Меррил не разговаривал с самим Томасом Манном, всё не так уж кошмарно.
— Но что ты ей сказал?
— Я сказал, что мы старшеклассники, мы оба прочли книги Томаса Манна и хотели бы с ним познакомиться.
Нет, даже хуже, чем мне представлялось. Но что мне представлялось?
— Это… Какая дикая тупость!
— Да отчего же тупость? Хорошо поговорили.
— Ох, Меррил! — У меня не хватало сил даже протестовать. — И что она тебе сказала?
— Сказала: «Одну минуту, я позову мою дочь», — продолжил Меррил, сияя от гордости. — А потом к телефону подошла дочь, и я еще раз сказал…
— Не тарахти, — перебила я. — Жена отошла от телефона. Пауза. Потом ты услышал другой голос.
— Да, тоже женский, но другой, они обе говорят с акцентом. Она сказала: «Это мисс Манн, что вам нужно?»
— Так и сказала? Похоже, она рассердилась.
— Нет, голос был не сердитый. Возможно, она сказала: «Мисс Манн слушает». Не помню, но, честно, голос у нее был не сердитый. Потом она спросила: «Что вам нужно?» Нет, погоди, она спросила: «Так чего вы хотите?»
— Ну, а ты?..
— А я сказал… видите ли, мы старшеклассники, оба прочли книги Томаса Манна и хотим с ним познакомиться.
— Но я не хочу с ним знакомиться! — взвыла я.
— А она сказала, — не унимался он, — «Одну минуту, я спрошу у отца». А может: «Один момент, я спрошу у отца». Отошла, не очень надолго… а потом вернулась к телефону и сказала… Вот ее доподлинные слова: «Отец ждет вас к чаю в следующее воскресенье в четыре».
— И что дальше?
— Она спросила, знаю ли я адрес.
— А потом.
— Потом всё. А-а… еще сказала: «До свидания».
Я секунду поразмыслила о необратимости случившегося, а затем снова воскликнула:
— Ох, Меррил, как ты мог!
— Я же тебе сказал, что позвоню.
Неделя тянулась, меня обуревали стыд и страшные предчувствия. Я должна против своей воли встретиться с Томасом Манном. Встреча, полагала я, чертовски неуместна, а то, что ему придется тратить время на встречу со мной, — нелепо до гротеска.
Разумеется, я могла бы заявить, что не пойду. Но меня страшило, что неотесанный Калибан, которого я сдуру приняла за Ариэля, отправится к волшебнику в одиночку, без меня. Хотя со мной Меррил обычно держался очень уважительно, теперь он, по-видимому, счел, что в области преклонения перед Томасом Манном он мне ровня. Не могла же я допустить, чтобы Меррил навязывался моему кумиру без посредников! Если я буду его сопровождать, то, по крайней мере, смогу смягчить последствия, удержать Меррила от вопиющих бестактностей. Я чувствовала (вот самая трогательная, по-моему, страница моих воспоминаний), что Томаса Манна может ранить глупость Меррила или моя глупость… что глупость всегда ранит, а мой долг, поскольку перед Манном я благоговею, — уберечь его от этих ран.
На неделе мы с Меррилом два раза встретились после уроков. Я перестала его отчитывать. Мой гнев схлынул, но на душе становилось всё тяжелее. Я попала в капкан. Раз уж придется идти, я должна чувствовать духовное родство с Меррилом, сплотиться с ним вокруг общей идеи, а то опозоримся перед Манном.
Наступило воскресенье. Меррил заехал за мной: ровно в час подкатил на шеви к моему дому и забрал меня прямо с тротуара (о приглашении на чаепитие в Пасифик-Палисейдс я не сказала ни матери, ни единой живой душе), и к двум часам дня мы уже были на широком пустынном Сан-Ремо-драйве, откуда виден океан и далекий остров Каталина; припарковались примерно в двух сотнях футов от дома 1550 (и в месте, которое из дома не просматривалось).
С чего начать, мы уже договорились. Первой выскажусь я о «Волшебной горе», потом Меррил спросит, над чем Томас Манн сейчас работает. А теперь — у нас еще два часа в запасе — спланируем остальное. Но несколько минут спустя, когда оказалось, что мы совершенно не представляем себе его реакцию на все высказывания, пришедшие нам на ум, вдохновение иссякло. Что говорят боги? Наше воображение оказалось бессильно.
Так что мы сравнили две записи «Смерти и девушки», а потом съехали на любимую идею Меррила о трактовке «Хаммерклавира» Шнабелем, идею, которую я считала удивительно прозорливой. Меррил, казалось, почти не волновался. Наверняка мнил, что мы имеем полное право докучать Томасу Манну. Меррил полагал, что мы, развитые не по годам подростки, вундеркинды второй лиги (мы оба понимали, что до настоящих вундеркиндов, таких, как Менухин в детстве, не дотягиваем; вундеркиндами мы были по аппетитам, по уважению к культуре, а не по достижениям), можем представлять интерес для Томаса Манна. Я не разделяла его мнения. На мой взгляд, мы были… чисто потенциальными величинами, не более того. По серьезным критериям, коли на то пошло, нас попросту не существует.
Солнце светило ярко, улица была пустынна. За два часа мимо нас проехало лишь несколько автомобилей. Без пяти четыре Меррил снял машину с тормоза, и мы, бесшумно съехав под уклон, припарковались снова, теперь у подъездной аллеи дома 1550. Вышли, размялись, подбодрили друг друга пародийными стонами, как можно тише прихлопнули дверцы, направились по дорожке к дому, нажали на кнопку звонка. Прелестная мелодия. О-хо-хо!
Нам открыла престарелая женщина с белоснежными волосами, собранными в пучок, похоже, ничуть нам не удивилась, пригласила войти, попросила подождать минуту в полутемной прихожей — справа находилась гостиная — и удалилась по протяженному коридору, скрывшись из виду.
— Катя Манн, — шепнула я.
— Интересно, а Эрику мы увидим? — шепнул в ответ Меррил.
В доме было абсолютно тихо. Вот и она. Возвращается.
— Пойдемте со мной, пожалуйста. Муж примет вас у себя в кабинете.
Мы последовали за ней почти до конца узкого темного коридора, почти до лестницы наверх. Слева была дверь. Женщина толкнула ее. Мы вошли следом за женщиной, еще раз свернули налево и наконец оказались внутри. В кабинете Томаса Манна.
Сначала я увидела комнату — на вид просторная, и окно большое, из него открывается широкая панорама — и только чуть позже сообразила: это же он, сидит за почти черным, массивным, пышно украшенным письменным столом. Катя Манн представила нас. Это старшеклассники, сказала она, назвав его «доктор Томас Манн»; он кивнул и произнес что-то радушное. Он был в бежевом костюме и галстуке-бабочке, как на фронтисписе «Эссе за тридцать лет»; первое, что меня ошеломило, — сходство этого человека с его же чинным постановочным фотопортретом. Сходство казалось чем-то сверхъестественным, настоящим чудом. И не только потому (так я теперь рассуждаю), что я впервые знакомилась с человеком, чей облик уже хорошо представляла себе по фото, но и потому, что впервые повстречала кого-то, кто даже не пытался изображать непринужденность. Его сходство с собственным фото казалось своего рода фокусом, словно Манн и в эту минуту позировал перед объективом. Но раньше, на его фотопортрете в полный рост, я не замечала, насколько жидкие у него усы, насколько бела кожа, как испещрены старческой гречкой руки, как неприятно выпирают вены, какие у него глаза за стеклами очков — маленькие, янтарного цвета. Сидел он очень прямо и выглядел очень-очень старым. На самом деле ему было семьдесят два года.
Я услышала, как позади нас закрылась дверь. Томас Манн указал нам на два стула с жесткими спинками напротив стола. Закурил сигарету, откинулся в кресле.
И пошло-поехало.
Он заговорил, не дожидаясь наводящих вопросов. Помню его торжественность, акцент, медлительный темп речи: я до тех пор не встречала никого, кто говорил бы так медленно.
Я сказала, что мне очень понравилась «Волшебная гора».
Он сказал, что это очень европейская книга, что в ней изображены стержневые конфликты европейской цивилизации.
Я сказала, что поняла это.
Меррил спросил, над чем он в последнее время работает.
— Недавно я завершил роман, частично основанный на жизни Ницше, — сказал он, делая после каждого слова гигантскую, настораживающую паузу. — Мой главный герой, однако, не философ. Он великий композитор.
— Я знаю, как важна для вас музыка, — отважилась сказать я, надеясь надолго подогреть разговор.
— И высоты, и пучины германской души отражены в ее музыке, — сказал он.
— Вагнер, — сказала я, опасаясь накликать катастрофу, так как ни одной оперы Вагнера еще не слышала, но, правда, статью Томаса Манна о нем прочла.
— Да, — сказал он, взял со стола какую-то книгу, взвесил на ладони, закрыл (вложив вместо закладки большой палец), а затем снова положил на стол и раскрыл снова. — Как видите, в эту самую минуту я сверяюсь с четвертым томом превосходной биографии Вагнера. Ее автор — Эрнест Ньюман.
Я вытянула шею, чтобы практически уткнуться глазными яблоками в буквы названия и имени автора. Биография Ньюмана мне уже попадалась в Pickwick.
— Но музыка моего композитора не похожа на музыку Вагнера. Она близка к системе двенадцати тонов или ряду Шёнберга.
Меррил сказал, что мы оба очень интересуемся Шёнбергом. На это Манн ничего не ответил. Перехватив озадаченный взгляд Меррила, я одобрительно сделала большие глаза.
— Скоро ли выйдет ваш роман? — спросил Меррил.
— Над ним сейчас работает мой верный переводчик, — сказал Манн.
— Х. Т. Лоу-Портер, — пробормотала я, впервые в жизни произнеся вслух эту чарующую фамилию с таинственными инициалами и броским дефисом.
— Для перевода это, пожалуй, самая трудная моя книга, — сказал он. — По-моему, миссис Лоу-Портер никогда еще не сталкивалась со столь трудной задачей.
— А-а, — сказала я.
У меня не было никаких конкретных представлений о Х. Т. Л.-П., но весть о том, что это имя носит женщина, стала неожиданностью.
— Необходимо глубокое знание немецкого, а также большое мастерство, поскольку некоторые мои персонажи беседуют на диалекте. А дьявол — да-да, среди персонажей моей книги есть сам дьявол — говорит на немецком шестнадцатого века, — сказал Томас Манн медленно-медленно. Улыбнулся поджатыми губами. — Боюсь, это мало что будет значить для моих американских читателей.
Мне очень хотелось сказать ему что-нибудь утешительное, но я не осмелилась.
«Он говорит медленно, потому что такая у него манера? — гадала я. — Или потому, что говорит на иностранном языке? Или потому, что считает нужным говорить медленно, предполагая, что иначе (Ввиду того, что мы американцы? Ввиду того, что мы еще дети?) мы не поймем его слова?
— На мой взгляд, это самая смелая книга из всех, что я написал. — Он кивнул нам. — Самая неистовая моя книга.
— Мы с нетерпением ждем возможности ее прочесть, — сказала я, всё еще надеясь, что он заговорит о «Волшебной горе».
— Но в то же время это книга моей старости, — продолжал он. Долгая, долгая пауза. — Мой «Парцифаль», — сказал он. — И, конечно, мой «Фауст».
Казалось, он на миг отвлекся, словно вспоминая что-то. Закурил новую сигарету, слегка повернулся в кресле. Потом положил сигарету в пепельницу, потеребил указательным пальцем усы; помню, мне показалось, что его усы (никто из моих знакомых не носил усов) словно малюсенькая шляпа над губой. Я призадумалась: не значит ли это, что разговор окончен?
Но нет, он продолжил. Помню словосочетания «судьба Германии»… «демоническое и бездна»… а также «фаустовская сделка с дьяволом». Несколько раз всплывало имя Гитлера. (Затронул ли он проблему Вагнера — Гитлера? Кажется, нет.) Мы изо всех сил старались продемонстрировать, что его слова для нас — не совсем пустой звук.
Вначале я ничего, кроме него, не видела: обстановка комнаты расплывалась — так действовал трепет перед физическим присутствием Манна. Но потом я начала замечать всё новые и новые подробности. Например, предметы, разложенные на столе довольно беспорядочно: ручки, чернильница на подставке, книги, бумаги, а также выводок маленьких фотокарточек в серебряных рамках, обращенных ко мне оборотными сторонами. Что до картин
