автордың кітабын онлайн тегін оқу Год Горгиппии
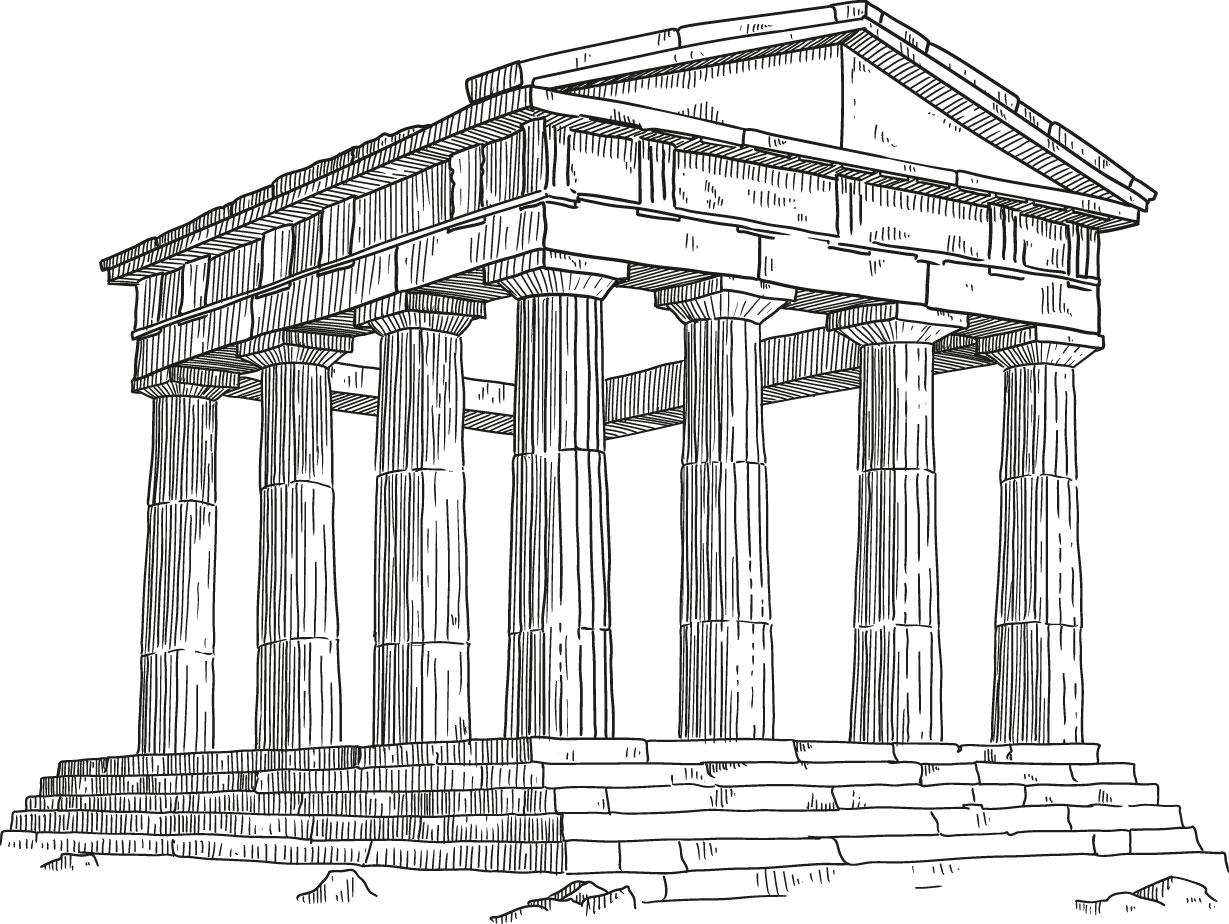


ПРЕДИСЛОВИЕ
Античный город Горгиппия в самом деле существовал. Теперь на его руинах располагается знаменитый курорт Чёрного моря — Анапа. Археологические раскопки всего побережья принесли нам много предметов быта и искусства Северного Причерноморья. Сохранять настолько древнее историческое наследие тяжело, но музей «Горгиппия» в Анапе замечательно справляется. Выставки, посвящённые Античности на территории постсоветских стран, можно отыскать и в Эрмитаже (Санкт-Петербург), и в Пушкинском музее (Москва), и в музеях-заповедниках, где проводились раскопки, таких как «Фанагория» в Краснодарском крае на Тамани.
С тех пор как я увидела улочки Горгиппии, мысль о популяризации античной истории России прочно укоренилась во мне. Однако роман совсем не про прошлое. В современном мире нам приходится исследовать остатки павших цивилизаций, и поэтому я выбрала за основу будущее, которое могло бы случиться из-за климатической экологической катастрофы. Я описываю времена после разрушения, когда цивилизация ищет опору для восстановления, — и в этом романе опорой как раз стали предметы античного наследия, найденные на берегу Моря. Я прибегаю к условным допущениям, например мешаю народности и царства разных периодов древности. По сути, от Скифии, Колхиды, Аварского каганата, Синдики и Боспорского царства я беру лишь примерное географическое положение и мелкие отсылки к культуре и эстетике.
Постапокалиптичный сеттинг романа обязывает меня предупредить: психическое и физическое равновесие выживших людей моего мира нарушено давно, а бесконечная жара — это на деле облучение солнечной радиацией. Система Олимпийских игр в книге не имеет ничего общего с современными спортивными состязаниями, но и на античные развлечения похожа лишь отчасти. Дело в том, что люди будущего открыли для себя Олимпийские игры и их символику только благодаря олимпийским объектам, найденным в окрестностях Сочи.
Данный текст рекомендуется читать с осторожностью. Я, хоть и старалась сделать его репрезентативным, поднимаю в книге темы расстройств пищевого поведения, инвалидности, женской репродуктивности, физического насилия. Упоминаю смерть, кровь, травмы и ритуалы с животными, а также описываю процесс безвольного нахождения в изменённом сознании. Пожалуйста, берегите себя.
ПРОЛОГ
Обожжённые раскалённым песком ноги тонут в барханах, но я бегу — и ничто меня не остановит. Буйное море бьётся о берег, оно манит меня, но идти в него опасно: теперь дно глубже, чем застали мои предки. Бирюзовая вода шумно плещется, а после шипит, растворяясь в мель. Я вспоминаю скалистую Колхиду и тут же больно запинаюсь о выступ каменной породы, песок меняется галечной россыпью под загрубевшими от пожизненного босоногого труда ступнями. Спотыкаюсь о мысли и качусь с пустынного холма кубарем, за крепко зажмуренными веками воскрешая мягкость горных аварских лугов. Мои руки находят опору и не подводят — я ползу, щурясь от порывов колючего ветра Скифии. Подняться удаётся лишь на одну ногу, вторая — немеет, я волочу её за собой и припадаю на колено перед Солнцем, словно жители чуждого мне Боспорского царства, что поклоняются хвастливому божественному светилу.
Без сил валюсь к ногам гостеприимной Синдики. Золотой, песочной, несравненной Синдики, на берегу которой стоит величайший из созданных храм Единства, и охраняет его мой покровитель-атлет, сын и брат трёх великих богов — Восход, в чьи величественные руки я бегу через все пять государств Союза. Он встаёт со своего постамента и склоняется надо мной. Моя незначительность несравнима с его величественностью. Все боги крайне обширны станом: их могучие тела защищают нас от напастей со стороны пустошей. Меня слепит сила тела Восхода, он заслоняет собой даже Солнце — эта мысль настоящее кощунство, но для меня всё именно так.
— О великий Восход, — молю неслышно, и на зубах скрипят крупицы песка. Губы обветренны. Слабые очи режет от боли: я не выдерживаю божественный свет. — Моя родная столица благословлена на свои первые Олимпийские игры. Твой дар поистине бесценен. — Восход правит нашим здоровьем, стремлением и победами, а его близнец Исход — неминуемой смертью. — Горгиппия возносит твоё имя к Солнцу.
Я слышу рёв стадионов: «Солнце! Да здравствует!» — и вижу, как Восход по привычке уступает место нашему общему Отцу, источнику жизни и силы. Восход послушным сыном оборачивается, встречая снисходительную улыбку его матери Земли, и прищур самого Солнца, и острое безразличие вечно отстранённого Моря. Ради Богов мы устраиваем Олимпийские игры — это то, что Они требуют и принимают от нас в обмен на жизнь.
— А жертва? — безэмоционально гремит голос то ли моего покровителя, то ли высших богов, вырывая меня из дум. Это нечто чуждое, словно сотрясаются небеса, а не чей-то рот говорит.
— Ж-жертва? — я пугаюсь, но не могу сдвинуться с места. Меня не заботят ритуалы и служение, я чувствую свою связь с Богами напрямую. Мямлю, пытаясь оправдаться: — Мы принесли на алтарь барана и вино, и…
— Другая жертва, Ираид! — требовательно повторяют уже хором.
И пока я мнусь, не находя достойного ответа для своего бога — ум не сильнейшая моя сторона, — Восход бьёт в волны бурей и сотрясает всё побережье, забирая обещанное подношение сам.
Так я, величайший атлет Союза, любимец публики и пятикратный победитель Олимпийских игр в нашем новом — после Выжигающей судьбы — мире, лишаюсь половины себя и всей своей силы — правой ноги.
Просыпаюсь от боли — тысяча спиц пронзают со всех сторон ногу. Она ноет, пусть и давно отрезанная от меня острым лезвием. Я вскакиваю, хватаясь за пустоту.
ГЛАВА
ПЕРВАЯ
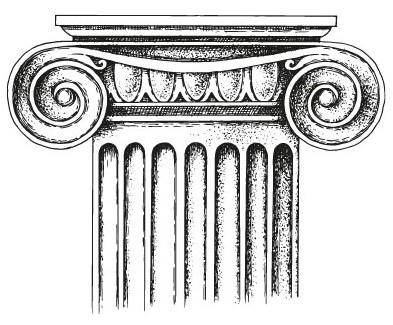
ШАМСИЯ
Степные земли,
племенная стоянка в Скифии
Первые горны будят наше поселение, когда солнце поднялось над степным горизонтом на три пальца, — поздновато. Я по-охотничьи дремлю, веки не дрожат, но ухо держу востро. Кто-то шумно тащится к тёплому центру остывшей за ночь чу́мы [1], прямиком к драгоценному котлу, стучит лопаткой по испачканной сажей бронзе. Слышу, что пробравшееся в жилище «животное» шумно дышит, взирая на спящую под шкурами меня.
Жду строгого голоса, который должен меня разбудить, но тот, кого я стерегу, будто добычу, молча уходит. Подозрительно тихо… это совсем не похоже на моего родителя, он обычно не бережёт мой сон. Мои инстинкты слабеют.
Горны требуют явки от меня и подруг — звучит праздничная протяжная мелодия Луны. Я обращаюсь к себе, и в груди эхом откликается зов. Кожаная обмотка поверх груди давит до боли — потому морщусь, недовольно поднимаюсь на руках от земляной лежанки и чувствую на бедре что-то тёплое. Не иначе, содрала верхний слой с раны, и пошла кровь.
Понимаю, почему родитель кротко себя ведёт, а на улице кричат женщины. Вместо ожидаемой радости за сестёр раздражённо сплёвываю под ноги. Я живу девятнадцатый круг от момента рождения, а жрицами богини Земли становятся (пусть и не все) тремя-четырьмя кругами ранее.
Владыка чувствует, что одна из пятерых дочерей осчастливит её сегодня и перед союзными послами она гордо скажет победное слово. Её рукой лёг на алтарь последний аварский ягнёнок — дань песчаному кругу Луны, и я знаю это, ибо держала в руках ослабевающее тельце, гладила бархатистые завитки шерсти, пока она примерялась, каким добротным одеяльцем станет для новорождённого эта шёрстка в будущем.
Но родительница нерешительно топчется у чумы двух моих младших сестёр (там их святую невинность охраняют воительницы). Они надежда племени — никого, кроме Владыки, пока не благословляла Луна. Способность приносить в этот мир жизнь — величайший дар, который Ша сама получила в одну далёкую песчаную луну, и ягнёнок был тогда не чёрный, а серебристый. Я зову её Ша, а мужчину-родителя — Ма. И получаюсь я, состоящая из лучшего, что было в них двоих, — Шама.
Ма встречает меня у выхода из нашего убежища и протягивает мешочек с копчёным сухим мясом, словно ничего особенного не происходит. Я старшая дочь Владыки, а к тому же добытчица, и потому мне дозволено носить еду с собой, не дожидаясь вечернего общего супа. Если бы я стала жрицей Земли, то племя выбрало бы следующей Владыкой меня. Точнее, они выберут.
— Ша! Ых! [2]
Скифский язык — это выкрики, вопли, позывы, и, пока мы далеко от полисов в степных пустошах, Боги понимают нас и так, без фальшивого союзного выговора и молитв. Союз требует от нас постоянной практики единого языка, но вести беседы мы не успеваем.
Кирка застывает рядом со своей лошадью, насмешливо смотрит на Ша. Мою тётку, лучшую ищейку в нашем многочисленном племени, не обмануть — она кровь чует за пять шагов до цели. Мне она, счастливая в своём бесплодии, лишь сочувственно кивает. Ша сразу же оборачивается на меня — но не из-за моего крика, а из-за взгляда Кирки. Ма шокированно прикладывает ладонь ко рту, люди кругом тётки расступаются.
— Шамсия! — голос Ша звучит так торжественно, словно это она собственноручно вонзила кинжал в мою утробу и пустила первую кровь. — Моя Шамсия! Будущее нашего племени заключено в тебе!
Горны клокочут. Толпа свирепеет от восторга. Я стою бледная — у меня тянет литой бронзой низ живота, и даже укус дикой собаки, полученный недавно, гноясь, не болел сильнее. Меня постигло благословение. Мучительное и слишком много к чему обязывающее.
Будь я просто охотницей, мы бы с соратницами продолжили рассекать неживые после Выжигающей судьбы степи, выделывать шкуры пушных зверьков и обветривать свои смуглые бугристые лица, направленные навстречу свободе — на благо лженауке полисов и в память об утерянном наследии наших общих предков, которое мы артефактами-кусочками ищем и собираем по пустырям, а после доставляем в столицу, где их ждут самые достойные умы.
Но теперь я войду в историю родительницей. Не стану отнимать жизни, как хранительница племени и охотница, а, одна из немногих, подарю её. Я смотрю на горизонт, где взошло Солнце, и Его лучи обнимают наше племя. Богиня Земля улыбается мне трещинками стонущей от жажды почвы. Я истекаю кровью, а потому срываюсь к ежедневной порции драгоценной воды и намереваюсь потратить её на не свойственную скифам чистоплотность. Я знаю, что от предначертанного мне теперь не отмыться.
Мы с Ша не близки. Она слишком занята заботой о благополучии других, а я и сёстры — лишь малая часть этих «других». Но Ма — я слышу — просит её саму отнести мне особенный пояс, который поможет переждать кровавую неделю. Скифская одежда защищает от опасностей ночи и жары дня, но снимать её сложно — это вторая кожа, но звериная. Трясущимися руками я омываюсь, отгораживаясь от любопытных глаз подстилкой, накинутой на палки. Я никогда не стеснялась до этого дня. Сухая земля благоговейно впитывает мою кровь, смешанную с водой.
Спустя мгновения возвращается Ша, заходит за мою защиту и прикрывает уже собой. Сюда никто не сунется, пока она присматривает за мной. Племя занимается подготовкой к очередному переезду.
О детях у скифов заботятся мужчины, потому что женщины слишком заняты управительскими делами: мы охотимся, копаем каньоны в поисках древних сокровищ и ищем места, пригодные для жизни, — мужчинам не под силу контролировать столько всего.
— Только родить — больше ничего, — строго, но радостно говорит Ша, протягивая мне одеяния. — Не обязательно даже любить…
— Я знаю, — отвечаю сухо, намекая на то, что она-то как раз не любит. Любит, может, Ма — но не любовь помогает нам выживать, а навыки.
— Ты поедешь в полис вместе со мной, чтобы обучиться искусству родов. Благо, что синды только рады нашему прибытию. — Ша говорит тихо и твёрдо, расставив руки в стороны, чтобы части её накидки скрыли нас от пустой степи. Словно бы она прячет меня и от богов тоже.
Моя мокрая нога подворачивается в кожаной сандалии.
— Та! — отрицаю на скифском. Мы немного говорим на новом языке, потому что Ша готовила меня к жизни лучшей, чем степная. Что ж, я первая дочь — наверное, тогда она ещё сознательно хотела детей. Ша подаёт мне кусок ткани, потому что чувствует себя обязанной сопроводить в новую жизнь и помочь. Обтирая тело от влаги, я сжимаю груди и скулю от боли. Ша улыбается моему запоздалому и нежданному становлению.
— До каганата два дня пути вверх, там меня и обучат. До Синдики — долго и в низину, — важным тоном говорю я, чувствуя, что раз благословлена, то могу и решать.
— Я не спрашиваю совета, а приказываю, — она цокает языком и складывает пальцы в знаке беспрекословного подчинения Владыке. — У аварцев не чтут жриц Земли. Они там вообще никого не чтут, кроме стариков и гор.
Она столь непримирима, потому что аварцы не признают величие женщин.
— А зачем мне поклонение? — обычно злость меня не одолевает, но сегодня душа сама не своя. — Могу просто доехать, купить там молоденького раба, привести его сюда — и понести от него, как ты. А после, не удовлетворившись этим, подобрать по дороге ещё четверых из жалости — и от каждого…
Звонкая пощёчина заставляет меня замолчать. Её бронзовые кольца царапают щёку. Скифы все отлиты из бронзы. Боспорцы окроплены солнечным золотом. Колхида выкована из стали. Аварцы — сплошная горная порода. И только в Синдике нашли возможность соединить несовместимое, оттого мы все со своею добычей и тянемся в столичный полис, выросший вокруг привезённого ранее.
— Ты прибудешь в Горгиппию к празднику, — смягчается Ша, отворачиваясь от меня. — Посыльные дали мне весть: все скифские племена отправляются туда.
Я заплетаю свои волосы в одну косу и обматываю ею голову, крючками из бронзы закрепляя неторжественную причёску на макушке. Это единственный протест, который Ша мне позволяет, — в наших волосах столько силы, что даже поклажу удобнее крепить к косам, чем тащить в руках.
— Не понимаю, — незаинтересованно осведомляюсь я. — Что скифам делать в полисе?
— Синды пригласили нас, — гордо отвечает Ша. — Завтра прибудут послы, я покажу им твоё благословение, — она отбирает у меня перепачканную подстилку, — и вместе с ними мы выдвинемся к столице. Как раз успеем на первые Олимпийские игры, в которых примут участие скифы.
Я замираю, как соломенная игрушка, — поначалу, а потом ловлю озорной взгляд этой могучей женщины и бросаюсь к ногам Владыки, осыпая поцелуями её оголённые юбкой острые колени.
— Ты исполнила мои молитвы, Ша!
Одна из дисциплин в Играх — стрельба и бег. Я самая меткая и быстрая скифка на нашей равнине.
— И ты мои, Шамсия, — она любовно гладит мою голову. — Всё, прекрати. Нам пора собирать лагерь. Как ты великодушна — так благодарить меня за волю Богов дать твоим сёстрам шанс участвовать в Играх. Земля наградит тебя за терпение, и ты легко выносишь дитя.
— Позволишь взять немного кожи? Я попрошу Кирку смастерить мне что-нибудь закрытое для удобного бега.
— Та, нраш [3], — и я тут же отшатываюсь от неё. Понимая, что она скажет. — Ты едешь за другим. Разумеется, ты увидишь Игры воочию — ты заслужила. Но участвовать? — она насмехается. — Никогда. Богами ты создана не для спорта.
ИРАИД
Институт лженауки и искусств,
Горгиппия, столица Синдики
Глина подсыхает примерно сто тридцать восемь ударов сердца, раньше дощечки в руки мне не взять. Младшая преподавательница дополнительно отстукивает счёт пальцами: ногти у неё короткие, но звук издают громкий. Я нервно поправляю парадную пряжку хитона и прокашливаюсь. Мы шагнули дальше рукописи, но отпечатывающая машина пока несовершенна, а потому такое затянувшееся молчание придётся терпеть пару раз на дню; я дураком гляжу на расплывающуюся буквенную маркировку главок, а помощница всеми силами старается не смотреть вниз. Деревянно-стальное замещение ноги вынуждает неловко топтаться на месте. Дощечки с докладом затвердевают, пока я пытаюсь прикинуть, как буду прятать свои увечья от внимательных первокурсников. Я владею телом так хорошо, что перемещаюсь по Институту быстро, иногда невзначай опираясь о столы, скамьи или колонны руками. Хромаю, хоть умелые дедаловцы [4] и соорудили для меня конструкцию особенную, которая не сравнится с ходулями любого нищего, — и всё же негибкая подмена тарахтит, как жестяной стакан для подаяния у храмов. Морщусь, вспоминая эхо мраморного зала славы атлетов, стоит в нем появиться мне и моей новой ноге.
— Необычные темы для уроков физической культуры… — бормочет помощница всех преподавателей и останавливает счёт. Проверяет дощечки — письмена чуть смазываются, но терпимо. Материалы упрямо мне не отдаёт. — Когда я училась, такого…
— Не было, знаю! — я сияю, замеченный пытливым взором. — Раньше здесь не преподавал Ираид, сын Перикла. Это мой трактат, и, возможно, я подамся с ним на соискание лжеучёной степени — знаете, в искусстве застревать мне не хочется, а вот лженаука!..
— Лженаука чего? — она недоверчиво хмурится. — Бега и прыжков?
Фыркаю и выдёргиваю знания из-под её завистливых когтей. Мне не следует вести разговоры о высших благах с кем-то, кроме настоящих лжеучёных. Хоть мы с соседним факультетом не всегда ладим, уж в трактатах и действенном подходе они знают толк. Получше недавней выпускницы, не нашедшей, куда устроиться на работу танцовщицей ритуального обмахивания царей в прогрессивной столице республики.
Но молодости знакомо лишь героическое жертвование, а осознание собственной значимости приходит в зрелости. Сожаления и сомнения, конечно, прилагаются. Многие годы новой эры я провёл в беге по ступеням амфитеатров и в плавании до края безопасности моря. Вскакивал на заре, ел по утрам только толчёные бобы или разводил их пыль водой; отказывался от вина в чашах и, когда нужно было уважить хозяев стола — делал маленький глоток из детской рюмки разбавленного водой горького сока. Рвал на чемпионских ужинах зубами ценнейшее почти сырое мясо, которое мне подавали единственному после правителей, прекрасно зная, что перед ночной тренировкой придётся опустошаться, чтобы не нарушать режим и не поплатиться лишними складками жира вместо мышц. Стоило ли оно того? — боюсь себя спрашивать.
Я ковыляю по пустынному коридору, пока студенты трапезничают внизу, на первом этаже Института. Воздух раскалён, как над жаровней, и через единственную сандалию я ощущаю нагретый мрамор. Второй этаж украшен колоннадой, и с него открывается прекрасный обзор побережья: вижу прекрасный сад, скрытый куполом от нещадного солнца, и вдалеке блеск бирюзово-мрачного ядовитого Бога — Моря.
Оно буянит пенистыми гребешками, будто назло первокурсникам, которым на сегодняшнем занятии придётся учиться покорять воду и самим покоряться воде.
Про меня говорят: его сопровождает Восход, потому ему подвластно любое состязание. Однако вся прелесть жизни атлета не только в соперничестве, и не только ради побед мы живём. Вернее, живу я. Учусь жить заново.
Моя новая нога сделана славно на замену отобранной, но совершенства моё тело лишено навсегда, а это нестерпимая боль в довесок к той, что мучает меня ночами в давно отнятой стопе. Мимо своих изображений я прохожу, словно мимо чужаков, себя там не узнавая из-за одного, но такого важного различия.
Голова кружится из-за липкой жары. Я на мгновение останавливаюсь у нового торжественного изображения, кропотливо выкладываемого к Играм. От швов мозаики приятно пахнет клейким илом, и керамика крошкой переливается в редких солнечных лучах, как рыбья чешуя. Эта часть композиции посвящена Морю, многоликому богу-изгою, и я силой воли отстраняюсь от идола. Солнцу же, хоть он меня и предал, я сохраняю верность по доброй памяти. Он — главный и самый опасный из всех, да и вторую ногу я берегу, что уж скрывать.
Лазарь радостно (или встревоженно, по нему не поймёшь) машет руками, подскакивая ко мне. Я с готовностью — разыгрываю страдальца — опираюсь на него, благодарю за помощь, но понимаю, что он лишь проверяет сохранность своего творения, недовольно хмыкая.
— Да не сдвинул я твою мозаику… — поспешно оправдываюсь.
— У меня горят сроки! — высокий голос режет слух. — Мы торопимся, ужасно близок наш конец!
— То есть торжество, Игры? Ты хоть помнишь, ради чего пыхтишь? — с деланой невинностью переспрашиваю я и получаю в ответ крик:
— Это тебе — атлету — торжество! А мне — ответственность, подготовка, стремление к идеалу!
Ну и идеалисты же эти искусственники. Я вздыхаю, но радуюсь привычной стабильности: прилив ли, отлив — а этот выходец из Колхиды ровно такой, каким его мать высекла из камня. Его родная республика богата на рукастых мастеров, и обычно они предпочитают работать, не удаляясь от мест своей силы, но Лазарь — пешком дошедший до Горгиппии ради поступления в Институт, мой дорогой бывший сокурсник, а ныне коллега, — редкое исключение. После учёбы он остался преподавателем искусства изваяния и теперь имеет право вдоволь ворчать: «Вы, синды, самые медленные люди на нашем маленьком свете, и дай вам волю — лепили бы из растекающейся глины статую века́ напролёт». Пусть обижает, мне неважно. После дня работы в сыром подвале от него веет прохладой, и, что бы он ни говорил, я не хочу от него отходить.
— Даже в Боспоре не сыщешь такой мозаики, Лазарь, — мои слова обворожительно льстивы, от комплиментов уши товарища краснеют; на фоне светлых волос смотрится чудно. В Боспорском царстве настолько любят роскошь, что выкладывают художества золотом, и, если бы они смогли позволить себе услуги Лазаря, Институт остался бы без творца на все руки. — Ты лучший творец Союза — и все Боги этому свидетели!
— Ну и чего тебе надо? — он быстро смекает, что я недаром его нахваливаю, рискуя всем нажитым. Говорить вслух о превосходстве выходца из Колхиды (где, по мнению многих, живут хвастливые варвары, отщепенцы и трусы) над божественными созданиями Солнцем поцелованного Боспора — почти грех.
— Одолжи мне охлаждающую мазь.
— Сколько раз тебе говорить, что занятия в самый жар не доведут до добра?
Я задумчиво сравниваю свой смуглый, почти тёмно-коричневый кулак со светлой, покрытой тонкой гипсовой коркой рукой творца. Природа чудна даже к соседствующим народам. Всего две недели пешком по одному побережью, но такой резкий перепад между песками и скалами — культурный, экономический и физический. Колхидцы по-своему сильны, но аскетичны, а оттого сложены тонко, переломанно, угловато — отличные скалолазы, но ужасные бегуны. Что ж, каждому своя дисциплина.
— Сегодня плавление по прогнозу — два-три кубика льда всего [5], — говорю я безразлично, словно между числами нет никакой разницы.
— Двадцать три, Ира! — Лазарь тычет меня в плечо. — Ты когда читать песочные доски научишься? Их же из наших учительских арок на втором уровне видно лучше, чем откуда-либо.
Он опять забыл, что я живу на первом, чтобы лишний раз не нагружать ногу подъёмами по лестницам. Для понимания, насколько яростно печёт Солнце, мне остаются только глиняные дощечки внизу учебного корпуса, а их всегда меняют нехотя.
— Всего-то? — переспрашиваю я и получаю склянкой спасительной мази под дых.
— Совсем меня разоришь, — бурчит он, нервно намазывая на шпатели клейкую массу для мелких квадратиков будущего узора, ухватить которые можно только очень острым, опасным инструментом. Не знаю, как колхидцам удалось из золы получить мазь, защищающую от ожогов, но вещь отменная. Только её даже за золото не достать — лжеучёные не верят в её действие и говорят, будто она вредна.
Я понимаю намёк Лазаря. Мазь он привозит из дома не так часто, и она нужна ему самому, по привычке замотанному даже в жару. Послушно киваю, наспех обещая, что на этот раз точно не схвачу тепловой удар — налеплю на лоб мокрую ткань.
— На макушку! — почти рычит Лазарь в ответ, и серьга в его ухе стреляет в меня солнечным отблеском.
От последней вспышки Солнца двадцать оборотов назад на Колхиде больше всего людей сгорело. Среди них была мать Лазаря, но мы об этом чаще молчим, чем говорим.
— Обязательно.
Ловлю своими тёмными кудрями тревожный бриз и оглядываюсь на прибрежное волнение Моря. Не просто солёной воды — а самого Бога. Хочу бежать и к нему, и от него одновременно, но вспоминаю, что теперь калека.
Но на то воля покровителей.
КСАНФА
Дворец Солнца,
Боспорское царство, столица Херсонес
Россыпь сияющих частиц по ситцу колется под пальцами. Я сияющий шар — на боках накидка собралась складками, просвечиваются излишняя округлость живота и излом под рёбрами, а ленты, всю эту конструкцию на мне удерживающие, перетягивают бёдра поперёк в самом неприятном месте — делят мягкую плоть на два уродливых холма с каждой стороны. Хочется плакать. Мой лекарь зовёт меня «истеричкой» — говорит, что после удачного деторождения это пройдёт.
— Подай карты, — шепчу я едва слышно, стараясь игнорировать внезапное горе из-за отражения. — Сейчас же!
«Капризная, — припоминаю я сухой голос зловредного старика-лекаря. — Капризная истеричка». В служении моему царскому высочеству ему нравятся только интимные осмотры.
Моя приближённая суетливо тасует колоду, дрожащими руками протягивает мне её и тут же начинает плакать — а меня отпускает. Мысли проясняются. Это зовётся переносными эмоциями — для того и нужны приближённые.
Я достаю древнюю карту, стучу по ней короткими ногтями и долго не решаюсь прочесть предзнаменование. Мне говорили, будто я обязана владеть хотя бы небольшими чудесами, но в моих руках лишь тонкие дощечки с орнаментами поверх. Они напоминают: я не рождена одарённой, лишь немного разбираюсь в оборотах моей тётки Луны.
— Ксанфа!
Во дворце нет преград. Высокие арочные проёмы завешены светлыми полупрозрачными тканями, если помещение общее, и плотными бархатными покрывалами, если покои служат тайным местом жизни кого-то конкретного. Мои покои не скрыты от родительских глаз, ибо я будущая избранница Солнца, которую нужно беречь.
Когда входит отец, я не слышу, как шуршит развевающаяся на морском ветру ткань. Прорези моих окон выходят прямо на пролив, а весь дворец — изваяние посреди полуострова. Шум воды заглушает любые негромкие звуки. Я благодарно кланяюсь отцу. Прислужница дежурно принимается обмахивать меня, потому что вместе с царём входит жара.
Вот только к ней я устойчива, как никто иной.
Порой мне чудятся переливы кварцевого берега Синдики, бывает, я вижу смельчаков, прыгающих с крутых утёсов Колхиды, а иногда чудится блеяние аварских баранов на далёком хребте Хасиса, случается, в ушах и вовсе воет скифский ветер. Но такое происходит нечасто; в остальное же время я — на каменной лежанке, в лености Боспора — ем хлеб с виноградным мёдом, пью вино и созерцаю искусство. Мои владения — везде, где земля озаряется солнцем, но почти всегда я заперта в камнях, сложенных и сцепленных белой глиной. Стены моей тюрьмы гладкие, золотые подносы с угощениями начищены до блеска, а сладкоголосые арфисты — словно вылепленные богами скульптуры.
На что мне жаловаться? Я любимица судьбы. И будучи ею — из дома выходить не хочу.
— Ты готова? — царь-отец недоверчиво осматривает меня. Я смущаюсь, отвожу взгляд и делаю знак рукой, приказывая прислужнице сесть в кресло… Под моим тяжёлым могуществом её миниатюрное тело послушно складывается, как по приказу. Я невольно встречаюсь взглядом с собственным бюстом, высеченным из золота. Он стоит неподалёку от арки на улицу, чтобы Солнце знал, где живёт его дочь.
Поднятые наверх на древний манер золотые волосы, приглаженные воском и перетянутые узлом на макушке, обнажают полноту моих рук очень некстати. В действительности у меня не такая хорошая причёска — у раскрасневшихся щёк две завитушки, всё остальное сбито в рассыпающиеся кудри, и сзади к шее постоянно липнут пряди. Опускаю взгляд и рассматриваю прозрачный наряд от лучших швейных Боспора уже на своём теле. В дневном свете он смотрится несуразно: почти всё тело на виду, словно я один из атлетов-чемпионов — нагой и бесстыжий, на стадионе ищу себе девок для весёлого вечера. Моё изваяние кажется прекраснее, чем я есть на самом деле.
— К чему мне быть готовой, отец? — «Всё, чему ты меня обучил, — праздно жить», глотаю я собственные мысли. Спорт? Не для царевен. Охота? Не для цариц. Мореплавание? «В раздольях этого подонка-божка? Никогда!» Наследница Солнца неприкосновенна, говорят они. И всё же отец хватает меня за локоть и тянет куда ему вздумается.
— К покорению Горгиппии! — бодро говорит он. Меня ждёт два дня тряски на лошадях и качки на носилках через едва живые пустоши, населённые умирающими от ожогов и сопутствующих им недугов. Они зовут это «солнечной вспышкой», но я имя своего Бога так опорочить не могу. Я родилась от его семени с белоснежной кожей, которой не страшны никакие вспышки и перегревы, — и должна быть за это благодарна Солнцу-отцу. Есть и недостатки — вся моя одежда мгновенно мокнет от охлаждения, поэтому она настолько легка, насколько это возможно.
— Но что, если… — я замираю на пороге своих покоев, страшась переступить черту. Отец дышит с присвистом; ему с трудом даётся раскалённый воздух. — Что, если они меня не выберут?
— Выбирает Он, — мой отец-царь суровеет. — И Он уже выбрал тебя — в тот день, когда вошёл к твоей покойной матери в спальню.
У них с отцом спальня была общая, и это безумно странная легенда; но всё же я не сбиваюсь с мысли. Ритуал не даёт мне покоя.
— Всю мою жизнь Он выбирал мужчин-атлетов. Я ведь совсем не подхожу для спорта.
Буду стоять там мраморной дурой, пока луч благословения обжигает Ираида, сына Перикла, как пять оборотов назад, и как ещё пять оборотов до этого, и ещё, и ещё — он выигрывает Олимпийские игры с детства. Опозорюсь на всю свою жизнь. Забытое предзнаменование остаётся в моих покоях, но душой я чувствую — оно не совпадает с намерениями отца.
— Птичка моя, ты не зря прибудешь задолго до Игр. Успеешь научиться всем премудростям. К тому же ты отлично стоишь на подвижной доске [6] и умеешь выруливать по холмам.
— Это не вид спорта, — слабо протестую я.
— Когда-то давно — был, и притом очень уважаемым. К тому же у тебя будут лучшие учителя.
Я и сама не замечаю, как меня выводят из дворца, ставят в запряжённую царскую колесницу и крепят ремнями к стальным конструкциям для безопасности, чтобы два восхода нестись через весь Союз к неясной цели. Родная страна кругом бурлит, но я не успеваю испугаться снующей в сборах толпы.
Любая, даже боспорская, молодёжь мечтает поскорее уехать в Горгиппию — современный, красивый и суетный полис-столицу. Принято грезить о лженауке, это распространённая мечта: можно либо бесполезно изучать мёртвые языки, либо искать новые способы укрываться от обжигающего небесного света или регулировать неисправимую погоду. Но царским особам не надлежит обучаться в Институте.
Тогда я ещё не знала, что сундуки с боспорским золотом и гонцы едут далеко впереди моих лошадей — и к моему прибытию царевна Боспорская, дочь Солнца Ксанфа Александрийская уже будет зачислена в Институт безо всяких испытательных состязаний. Благо я всегда верила и верю: Солнце не оставит меня одну.
[3] Нет, дорогая (пер. с новоскифского).
[2] Мама! Стой! (Пер. с новоскифского.)
[1] Чýма — палатка. Адаптировано как слово новоскифского языка.
[6] В мире книги аналог скейтборда.
[5] В мире книги температура воздуха измеряется альтернативным способом. В Синдике средняя достигает 55–60 градусов по Цельсию. Однако может доходить и до 70 на пике. — Прим. автора.
[4] Так называют инженеров в мире книги.
ГЛАВА
ВТОРАЯ
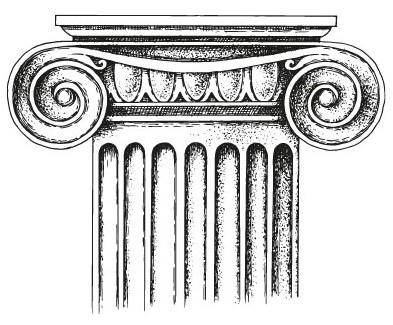
ИРАИД
Институт лженауки и искусств,
Синдика, столица Горгиппия
Вот что следует знать о Море: Оно не даёт жизнь, а лишь забирает её. Глотать воду опасно, камни остры, дно ядовито — лучше в воду не соваться, в общем. Море — зловещие мокрые волосы-водоросли, обжигающие доспехи из руин со дна, бирюзовая кожа — не такое уж и красивое, как обычно изображают художники. Скорее, злое и неистовое. И я бы сердился, если бы на моём берегу стоял великолепный храм старшему брату. Алтарей Морю не строят — всё равно Оно их смоет.
С неизведанной стороны суши во́ды ещё более негостеприимны. К нам никто не приплывает, потому что мира за пределами Союза нет. По крайней мере, нет мира живых — так нас учили, и так мы продолжаем учить. Я за пределы не стремлюсь, неплохо устроен и на своём месте. Здесь я знаю все правила и законы.
Пока студенты доделывают свои ореховые доски, втирая в податливую незащищённую древесину масляную пропитку, я подхожу к песочной кромке и сразу получаю путы из водорослей на здоровую ногу. Пахнет неприятно — вода цветёт и гниёт, ведь ею управляет редкостная дрянь. Лью вино в жадные волны, и те довольно впитывают принесённую кровь с лучших лозовых плантаций Боспора.
— Я привёл тебе наивных жертв на растерзание, — неискренне улыбаюсь я, до дна опустошая кувшин с щедрым даром. Позади меня кривятся парни — запретное удовольствие досталось не им, — а девушки хмыкают, разогревая и разминая мышцы. Они благодарны своему учителю за то, что из купальных обмоток не нужно будет вынимать редких морских обитателей и растительность благодаря принесённой жертве. — Пожалуйста, дай нам позаниматься сегодня. Я вернусь с вином ещё раз.
Волна лижет мою ногу из плоти, выражая своё одобрение, и я еле сдерживаю отвращение. Моя принадлежность Солнцу сильно мешает прислуживать наглому мокрому божку. Мы больше не выходим в Море, как это делали предки. Никто не поклоняется этой мутной воде.
Мы пытались — скифы нашли много полезных чертежей в пустошах, а колхидцы вылепили нам прототипы древних стальных плотов. Смельчаки встали на них, ушли по воде и не вернулись; а после отлива (Море иногда отбирает воду почти до горизонта) мы шли пешком туда, где прежде плескались волны, и отыскали их останки совсем недалеко от берега. Море всегда непредсказуемо и упрямо. Я должен научить этих детей держаться на воде вплавь и на досках, чтобы они могли давать отпор жестокой стихии, когда отвергнутый бог будет их топить.
Я почти беспомощен в своём увечье: утопаю в мокром песке тяжёлой подменой и, шатаясь, присаживаюсь (точнее, падаю) на берег, едва успевая бросить под одежды дощечку. Теперь я вижу воду и берег одинаково плохо. Сопровождавшие меня студенты запоздало реагируют на то, что я сажусь, — именно они помогли мне пересекать барханы. Филлиус — староста этого сборища — спешно кланяется мне и всем своим видом стыдится невнимательности. «Филлиус, — говорю ему я каждый раз, когда теряю равновесие за его спиной на песке, — не беси меня — иначе я тебе тоже ногу оторву». Я весьма добр к своим ученикам.
— Путеводный! — одна из девушек подбегает ко мне, её чёрные волосы заплетены в две перевязанные между собой косы: непривычно воинственная причёска для её языковедческого искусства. Путеводными студенты обязаны называть тех, кто учит их как своих последователей. Не для всех присутствующих, впрочем, я столь важная персона. — Позволь мне первой пройти волну.
Я теряюсь, не зная, что ответить. Мне тревожно отпускать второкурсницу на гребень. Море не особо благоволит нам, несмотря на дары: я уже вижу хищные зубы на верхушках волн. Укачает враз.
Скорее всего, сейчас будет непросто стоять на доске. Раньше я сам разбивал гребешок тяжёлой неповоротливой полосы, вставал на доску, а остальные следовали моему примеру.
— Как тебя?
— Бати, мой учитель.
— Хм, Бати, не знаю… волна довольно опасна, и нужно много силы, чтобы удержать доску в толще… — я приподнимаюсь, пытаясь вглядеться в баламутящуюся трассу для пловцов. Хочу встать, но и здоровая нога подводит меня. Врезаюсь в Бати, и она успевает подхватить меня, нерушимая, балансирует и сажает обратно. У неё покрасневшие на солнце жилистые руки и хилые мышцы. Как и все не-синды, она обгорает. Облачение нетипично тёмное: словно она нарезала чей-то наряд и обмоталась им, обнажив руки по локоть и ноги по колено. Смотреть на неё мне неловко, но проявление упрямства очень похвальное.
— Такой силы достаточно? — хмыкает она. Я моргаю, растерянный.
— В-вполне, — голос не слушается меня, но я быстро беру себя в руки. — Колхидка? — У меня слабость к колхидцам. Кто симпатичный — сразу оттуда.
— Аварка, — не перестаёт ошеломлять меня Бати. — Полное имя Патимат.
Вот почему она так бледна! Аварцы здоровее нас всех — они, пусть близки к Солнцу, своим иноверием научились прятаться от него за горными туманами. Похоже, я не узнал её только потому, что весь первый курс она скрывала свою силу под платком.
— И зачем тебе первенство, Патимат?
— Это станет моей заявкой, Путеводный.
— Заявкой на что? — я знаю и, потому что знаю — отворачиваюсь.
— На Олимпийские игры. Я стану атлеткой, продолжив твой путь.
Личные дощечки Ираида, учителя культуры тела и спорта в Институте полиса Горгиппия:
Если бы я знал, что сказать ей в ответ, — то я бы сказал. Но я не знал и не сказал.
Я молча смотрел, как она берёт свою до блеска отполированную доску из реликтовых предгорных деревьев — инвентарь студенты делают себе сами — и мочит ступни в воде, стараясь привыкнуть к ней. Поверхность нашего моря греется на солнце быстрее, чем тает охлаждающее питьё в трапезных. Она не спрашивает у меня разрешения, а идёт к намеченной цели. Другие девушки сторонятся Патимат, парни стыдливо отводят взгляд, стараясь не смотреть на шрамы от розог на её спине — в её родных землях суровое воспитание, которое осуждается в Синдике.
— Ты сделала подношение, как я просил? — Филлиус возникает передо мной словно ниоткуда, но обращается к Бати. Когда они целомудренно соприкасаются лбами, их силуэты перекрывают сжигающее мои глаза солнце. Я стараюсь не слушать, но всё же слышу — и убежать от чужих тайн не могу.
— Стихия мне не близка, как и ваши Боги, — смело заявляет она. — Я хочу доказать всем, на что способна. Мне нет равных в укрощении живого коня, так почему я могу не справиться с мёртвой водой?
На месте Моря я бы её утопил.
Но незаметно для нас всех, упирая доску в волну и умело балансируя на ней, Патимат встала на воду разрушенного храма Моря. Храма того, кто всеми отвергнут.
Вечером я сидел у деканши в приёмной, вызванный на покаяние. «Нарушение техники безопасности» — моя любимая директива Института, но сегодня моя вина усугубляется национальностью Патимат.
— Атхенайя, душа моя… — я глубоко вздыхаю, падая локтями на её стол. — Нельзя ли вообще убрать это из нашей клятвы?
— Убрать? — она качает головой, недовольная. Серьги её звенят, а бронзовые волосы сияют в закатных лучах. Ночь нежна, прохладна и потому коротка: темнеет в наших краях всего на пару коротких снов. — «Не навреди студенту» — убрать? Может, тогда сразу «донеси свет знания» убрать? Ты клялся, Ираид.
И тут она встаёт, и меня пронзает порыв лечь к подолу её деканского наряда — и скулить там, мямля оправдания.
— Ну, я много в чём клялся…
Дай бог Солнце памяти: это была и клятва сына, и клятва спортсмена, и после — чемпионская, учительская, и меж тем… моя клятва Атхенайе о верном супружестве. Нам было по семнадцать, и значение брака в Синдике с тех пор слегка изменилось, потому что последний супружеский долг она мне отдала, став деканшей факультета искусств в нашем Институте и дав мне тем самым должность учителя. Мы давно ничем не связаны, и всё же я побаиваюсь её до сих пор.
— Ира! — теряя самообладание, она хлопает ладонями по столу, тот неприятно трещит. Моя Атхенайя — искусная строительница полисов, ей любая мраморная колонна по плечу.
— Но всё же хорошо закончилось, — я отстраняюсь, потому что своим всплеском она меня прогнала. — И для меня, и для Бати…
— Патимат исключена из Института, — сокрушённо признаётся Найя, и я узнаю надлом в её голосе. Уж за ученицу-то она боролась. — Союз между Аварским каганатом и… — она кашляет, — остальным нашим миром очень шаток. По их убеждениям, женщины не могут превосходить мужчин.
— Но она не превзошла меня! — фыркаю я с улыбкой и, мне кажется, вижу проблему насквозь. И решение ей найду легко, дайте мне только шанс. — Да, я… — стараюсь не смотреть на израненное операциями бедро, — сейчас не встану на доску с былой лёгкостью, но и борьбы как таковой не было…
— Тебя и правда сложно превзойти, — нежничает бывшая жена, да так неправдоподобно, что мне приходится задержать дыхание, лишь бы не пустить слезу. Я инстинктивно оттягиваю край короткого хитона, но свой недостаток мне не скрыть. — Но дело не в этом. Клянусь тебе Солнцем: я потом и кровью пропихиваю этих девушек в Институт… Некоторые царства просто… мы вырождаемся, культура гибнет, соседи отстраняются от нас. Синдика должна всех объединить. И эта Олимпиада тоже. Но не так резво — с ходу позволять аварской покрытой девушке снять платок и оседлать волну…
— Проще от бессилия винить меня? — я понимающе подвожу итог нашей беседы. Тяну к ней руку, беру ладонь и целую пальцы. Элементарное проявление вежливости, ничто внутри не ёкает. Я встаю сам, хотя Атхенайя и порывается помочь. — Не нужно. Продолжай нести своё важное слово, а я похромал в свои покои.
— Ира, — её голос опять жалостливый. Злит даже. С кем не бывало? Боги ежедневно отнимают у нас что-то: барана, вино, хлеб, конечность. — Я знаю, быть учителем — не твоё призвание. Ты не учился на это и даже не помогал братьям или сёстрам. После тридцати оборотов солнца мы готовимся передавать наследие потомству. Институт — вот наше потомство.
Мы возлегали с Атхенайей многократно и безуспешно. Богиня-матерь Земля сразу отвергла её: я согласился на бездетность, потому что не хотел продолжения рода (хотел остаться единственным в своём). Мои свободные взгляды и атлетические сборы за пределами полисов позволяли жене пробовать и других мужчин на плодородных вечерах. Почти каждая женщина в наше время лишена дара рождения, а редкие счастливицы нарекаются жрицами Земли и уходят в Её чертоги подальше от Солнца и Моря.
Я прищуриваюсь, глядя на Найю: если бы богиня поменяла своё к ней отношение и обильно пролила её кровь на восхождение Луны, бросила бы бывшая жена все свои достижения и богатства развитой жизни, отдалась бы слепому размножению во имя союзного рода? Я не знаю.
Иду я, конечно же, не в покои. Некоторые учителя живут на территории Института, в добротном доме; у нас окна-арки, столбы охлаждения, которыми управляют лжеучёные, общие трапезные и приходящие прислужники для стирки и уборки. Там хорошо, но одиноко и пусто. Я никого, кроме Лазаря, не знаю, а он живёт на верхнем этаже — это отношения на расстоянии. Слишком крутую лестницу мне не преодолеть, отнимает все силы, которые я приберёг на тренировку. На первом этаже только я, норка домоуправителя и служебные ячейки с тряпками — больше никого.
Мои шаги сопровождаются стуком и лязгом раз через раз. Замещение ноги — грузное, громоздкое — очень подходит Ираиду-прошлому, любившему быть в центре внимания, но не мне теперешнему. Солнце ещё не село за море, и я отбрасываю по свободному коридору причудливую тень. Она слегка скачет, словно её породило неведомое чудовище. Мне часто говорили, что я хорош собой, но внутри — урод. Теперь сошлось — мой внешний облик соответствует внутреннему состоянию.
— Эй, атлет! Куда бежишь?
Голос Лазаря эхом разносится от лестницы ко мне. Он стоит на верхней ступени и прижимает к себе свёрнутые эскизы, а плечи его оттягивает незакрытая сумка с виднеющимися пробами глины.
— Трудный день?
— Лишь один из многих.
Я вижу, что он торопится — а когда не торопился? — и переминается с ноги на ногу. Вид у него уставший, но я вслух его не обижаю. Могу предложить ему, стоящему во тьме, выйти ненадолго на свет, в остывающий вечер, пропустить по парочке стаканов горького льда со своим кое-как-до-сих-пор другом. Мне не хватает яркости в жизни, общности, смеха и удовольствия — я скучаю по старому себе.
— Как поживает твоё мурчащее создание? — спрашиваю я его из вежливости.
Я не совсем одобряю пленение живого существа в клетке жилища, но Лазарь, видимо, так справляется с одиночеством, в котором я себе отказываюсь признаваться.
— Муза? Спасибо, что спросил, она растёт. Нужно её покормить, я задержался…
— Да-да! — я поднимаю руки: виноват, не отвлекаю. — Хорошего вечера.
Лазарь вздыхает облегчённо и кивает; а после в пару шагов взбегает наверх через лестничный пролёт, торопясь запереться в своём безопасном уголке. И я следую его примеру, ухожу к себе и только ширму задвигаю нехотя, надеясь, что меня кто-нибудь окликнет.
Я пропускаю ещё один общепринятый день веселья (которым завершается каждый учебный цикл) — и игнорирую радостный шум набережной, а после открываю охладительное окошко в стене, чтобы заглушить тишину мерным капанием воды внутри системы. Вечерний комплекс упражнений даётся мне хорошо, мышцы разогреты яростью и обидой, а кожа умаслена жалостью к себе. Отражающим серебром я пользуюсь, только чтобы управиться с вьющимися волосами по утрам, нижняя же часть — чтобы не видеть тело — мною разбита. Я стараюсь контролировать то, как выгляжу и во что одет, — на ощупь. Не хочу видеть свои мышцы, но каждый вечер отжимаюсь до скрежета и спазма в плечах, лишь бы чувствовать рельеф, даже когда просто поднимаю руку. Пока раздеваюсь и снимаю подмену — уже устаю. Перевожу дух, пью немного воды и уговариваю себя начать. Ужин пропускаю в угоду тренировке, чтобы не испытывать тяжесть.
Если Солнце отнимет у меня и вторую ногу — я научусь ходить на руках. Почти кричу, выпрямляя локти, чтобы удержать корпус на весу. В таком положении я чувствую обе ноги — та, которой нет, горит живым огнём не существующей на самом деле боли, — но, как назло, я ощущаю её слишком хорошо. Такая же боль зачастую будит меня по ночам.
За ширмой слышится шорох, стук о каменную кладку, и тихие шаги спешат прочь — я тут же сбиваюсь с позиции и с грохотом роняю себя на пол. Отодвигаю ширму, чувствуя боль: я едва не вывихнул себе руку, неудачно сверзившись из-за тайного гостя. Нахожу на полу свёрток и сразу сажусь рядом с ним, не в силах больше удерживать вес тела на одной ноге.
Разворачиваю ткань для сохранения тепла и вижу еду в походной миске и записку на ценном кусочке с зарисовкой умелой рукой.
(рисунок кота)
Всё же друг у меня есть. А когда имел две ноги — не было ни одного. Откладываю миску и обещаю себе, что съем это на завтрак. Но знаю, что предпочту ароматной жирной рыбе привычную уже похлёбку, которую давно уговорил себя любить.
ШАМСИЯ
Степные земли,
дорога на Горгиппию
— Шама?
— М?
Детское личико появляется из вороха тканей. Я разжалована из защитниц племени — но безопасность каравана неустанно блюду. Глаза слипаются, и я из последних сил опираюсь на лук руками. Руками привычной мне Шамсии-охотницы — а вторая ипостась крепко спит глубоко внутри меня, несмотря на восхождение Луны. Пытаюсь посчитать, когда мне понадобится остановка, чтобы сменить повязки. Я много раз ранилась — моё тело покрыто шрамами наравне с племенными подкожными рисунками, — но впервые кровопролитие было таким неконтролируемым и требовательным. Обычно ткани-бинты с компрессами срастались с корочками ран на теле — и ничего! — а тут стоит чихнуть, и…
— А что такое полис? Ты была в полис? Почему полис — не мы?
Младшая сестра — драгоценность. Скифы очень ценят, когда в племени поголовно рождаются девочки. Неужели и у меня когда-нибудь будет дочка? Я реагирую на эту мысль крайне противоречиво и совсем не радостно.
— Очень много вопросов, Зира. Спи.
Зира — буквально «мучение» по-скифски. Ша она далась очень тяжело, и за крики своей дочери в родах матери Земле должно быть стыдно.
— Но я не хочу спать, — сопротивляется Зира. Может, станет будущей искательницей? Хотя нюх у неё неважный — она ест полынный суп Ма с удовольствием и просит добавки. — Я хочу знать мир.
— Много кто хочет, Зира.
— Шама, мне только ты расскажешь. Сёстры говорят, что ты самая умная. И что ты бывала с Ша в полисе. Только ты бывала!
— Это правда, — я горделиво принимаю лесть. Удивительно, как хитры дети в поисках сказок, спасающих от скуки. — Ведь я тоже находила полезные для полиса вещи, как и Ша. Ты знаешь, почему Скифия — место без земель и царей?
Зира издаёт нечленораздельный звук, желая узнать всё возможное. Заумных книжек, как синды, мы не пишем — всё передаём из уст в уста.
— Благодаря нашей кочевой жизни мы натыкаемся то тут, то там на реликвии и артефакты.
— Рек-вил-к-вии? — она пробует новое слово на языке полисов и тут же смеётся. — Какая глупость!
— Ничего не глупость. Ты же знаешь, что до нас тут жили другие люди? И на землях, по которым едем сейчас, тоже… Мы, может, едем по дорогам предков. А может, и по их разрушенным домам.
— Что такое дом? Какие люди?
— Я не знаю, но они оставили после себя много интересных вещей. А мы ищем эти вещи и отвозим в Синдику, например, — это помогает полисам развиваться. — Я умалчиваю о том, что мы берём и требуем взамен многое, потому что детям рановато знать правду об истреблении и злопамятности. — Там стоит большой Институт — в нём учат и древности, и современности.
— И ты там будешь учиться? И я?
— Что ты! — я неловко смеюсь. — Таким девушкам, как мы, там не место. Мы трудимся на благо своего племени.
— Но если бы нас научили… то наше племя могло бы жить как полис?
Я не нахожу достойного ответа на эту мудрость юного ума. Если бы мир был таким простым и союз — безвозмездным, мы бы не кочевали от кострища к пустоши и обратно.
— Спи и не беси, — и тут же смущённо закидываю хихикающее лицо тканями, запаковывая сестру в кокон.
Хоть Синдика и пытается поддерживать со всеми республиками крайне дружественные отношения, мне всегда казалось, что Союз трещит по швам — слишком мы разные. Я не понимаю полисы ровно так же, как его жители не понимают степей. В полисе дом — строение для сна и жизни в нём, мы же спим под открытым небом, и для нас дом — это люди и племя. Разве спортивные состязания могут объединить нас?
Я снова колю себя правдой. Будь я частью сотен атлетов, бегущих к одной цели, — тоже чувствовала бы духовное единение с ними. Мы бы пили из одной чаши и ели из одной миски, будь у меня шанс.
Мне привычно не тешить себя пустыми мечтами. Таково скифское воспитание: защищаться, питаться подножным кормом и идти дальше, не оглядываясь назад.
— Сбегаешь от нас, мар-ни? — голос Ма расстроенный, хоть он и зовёт меня любимицей на нашем наречии. — Я буду по тебе скучать.
— Я никуда не деваюсь, дорогой мой Ма, — сильно смущаюсь и поджимаю губы, зная, что не могу с ним такое обсуждать. Положение Ма не самое важное для племени, потому что мою родительницу давно интересуют мужья помоложе. У Ма красивые прямые тёмные волосы с сединой и узкие глаза — и мне передались вся его инаковость, сахарная смуглость кожи и медовый голос. Когда-то он был настоящим восточным красавцем.
— Полисы опасны, мар-ни, будь внимательна. Могут говорить другое — но скифам там не рады. Никогда не были рады, особенно в Горгиппии.
— Разве не там ты родился?
— Там, — он вздыхает и отводит свои чёрные глаза. Я знаю, он осторожничает в выборе слов, потому что не хочет меня пугать или путать. Ведь старшие сёстры огрызаются на него, если он даёт совет. Но это же мой Ма — я плоть и кровь от него и поэтому меняю боевую позицию на ракушку-дочь у его коленей. Повозка шатается, гружёные мулы ворчат. — Но я не синд. И даже не скиф…
И не боспорец, и не колхидец, и не «безымянный из пустошей». Ма родился рабом у обнищавших господ, и я это знаю — Ша его буквально выкупила у тех, кому задолжала его семья. Рабы не имеют национальности, это национальности… имеют их как вещи. Ша, конечно, говорит, будто с развитием Союза и рабства больше нет. И всё же мысль о том, что в чуждом полисе меня поджидают мешок и путь до каменоломни, иногда терзает моё нутро.
Дорога в Горгиппию обещает быть бесконечной, и поэтому я позволяю рукам Ма расплести мне косы, а его словам убаюкать. Синдика будет приветлива, если я буду выглядеть хорошо: сначала меня протянут послам как «дар Земли», потом посвятят в жрицы, а после, наверное, там же и оплодотворят… Я не знаю, как это работает. Главное, чтобы я не отвратила их своими рваными сандалиями и обломанными ногтями.
— Это ведь твоя сила, знаешь? — нежно говорит Ма.
— У меня сила в руках — я тягаю тюки в два раза больше меня самой. И в ногах — когда километры бегу без устали. А нутро… нутро слабое, оно ноет и требует. Это не сила.
— Но преимущество же. Ноги-руки у каждого есть. Мало ли кто сильный физически… Ты по-другому сильная.
Я хмыкаю. Не важна сила в руках и ногах? Поди встреться со степной собакой — можно и без головы остаться. А гордиться тем, что я не контролирую, мне противно. Потому я чувствую жажду к спорту: там ты можешь полагаться только на себя и без воли не победишь.
— Ма, а чего надо слушаться — тела или сердца?
Он замирает, явно хмурится и смотрит задумчиво на линию горизонта. Я слушаю наши сердца и то, как ворочаются другие люди в повозке, благо шёпот никому не мешает. Недолго Ма избегает меня, сосредоточенно складывает в мешочек мои нарядные колечки из бронзы, которые завтра закрепит в косах, и молчит. Он не позволит мне ударить в грязь лицом, наверняка и наряд мне новый схлопотал. И всё же я мягко тяну его за рукав, пытаясь ненавязчиво потребовать ответа.
— Я слушаю тело. Мне понятнее позывы, а не ощущения, — наконец отвечает он тихо.
