автордың кітабын онлайн тегін оқу На Черной горе
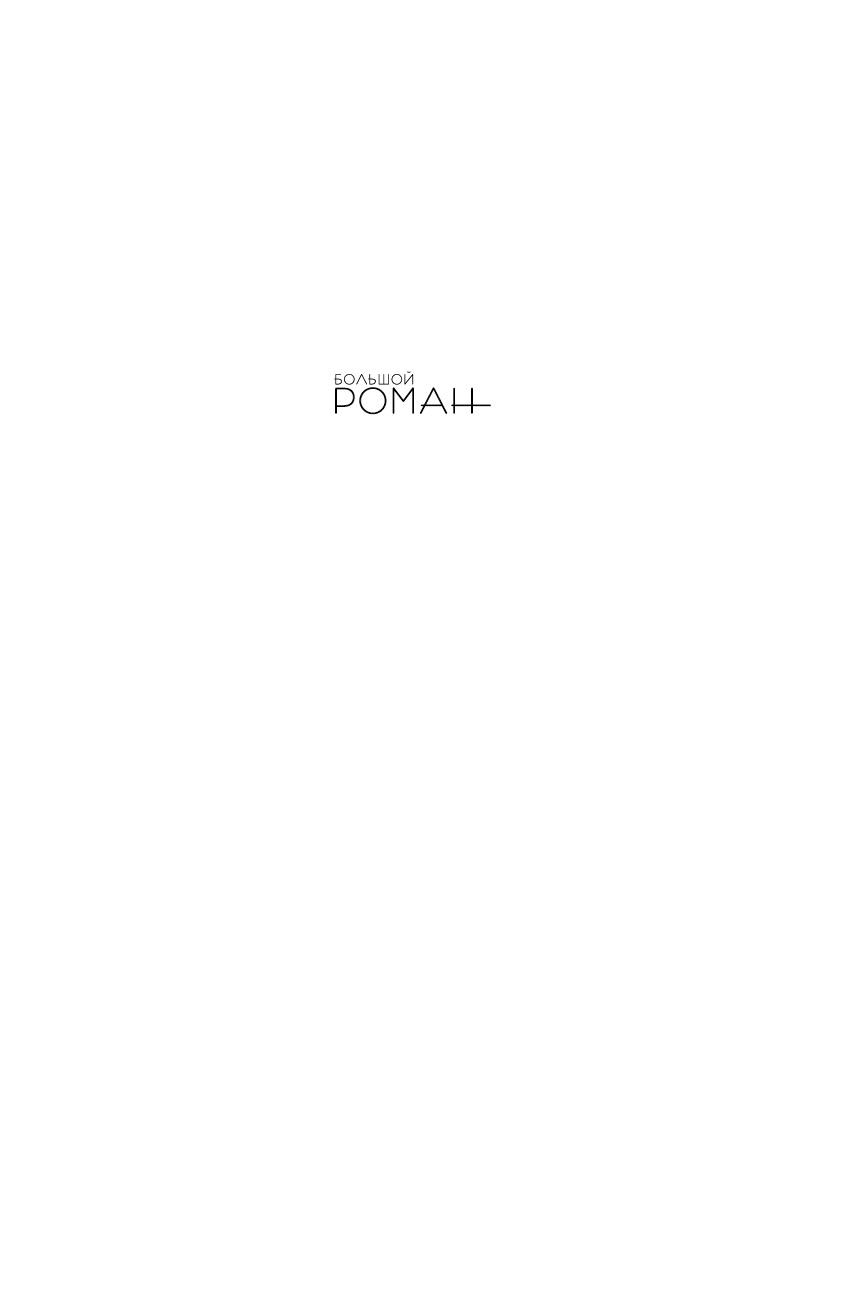
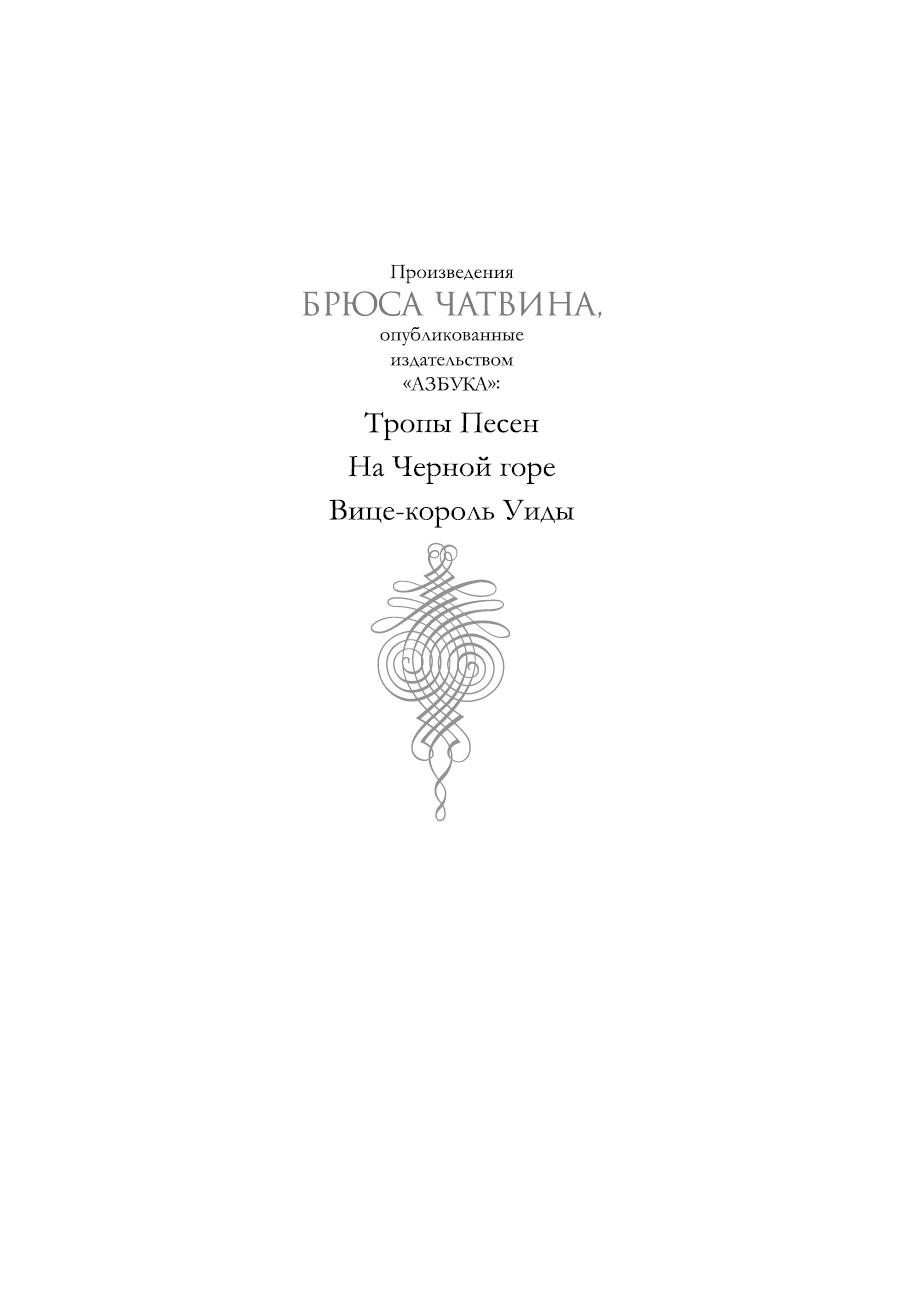
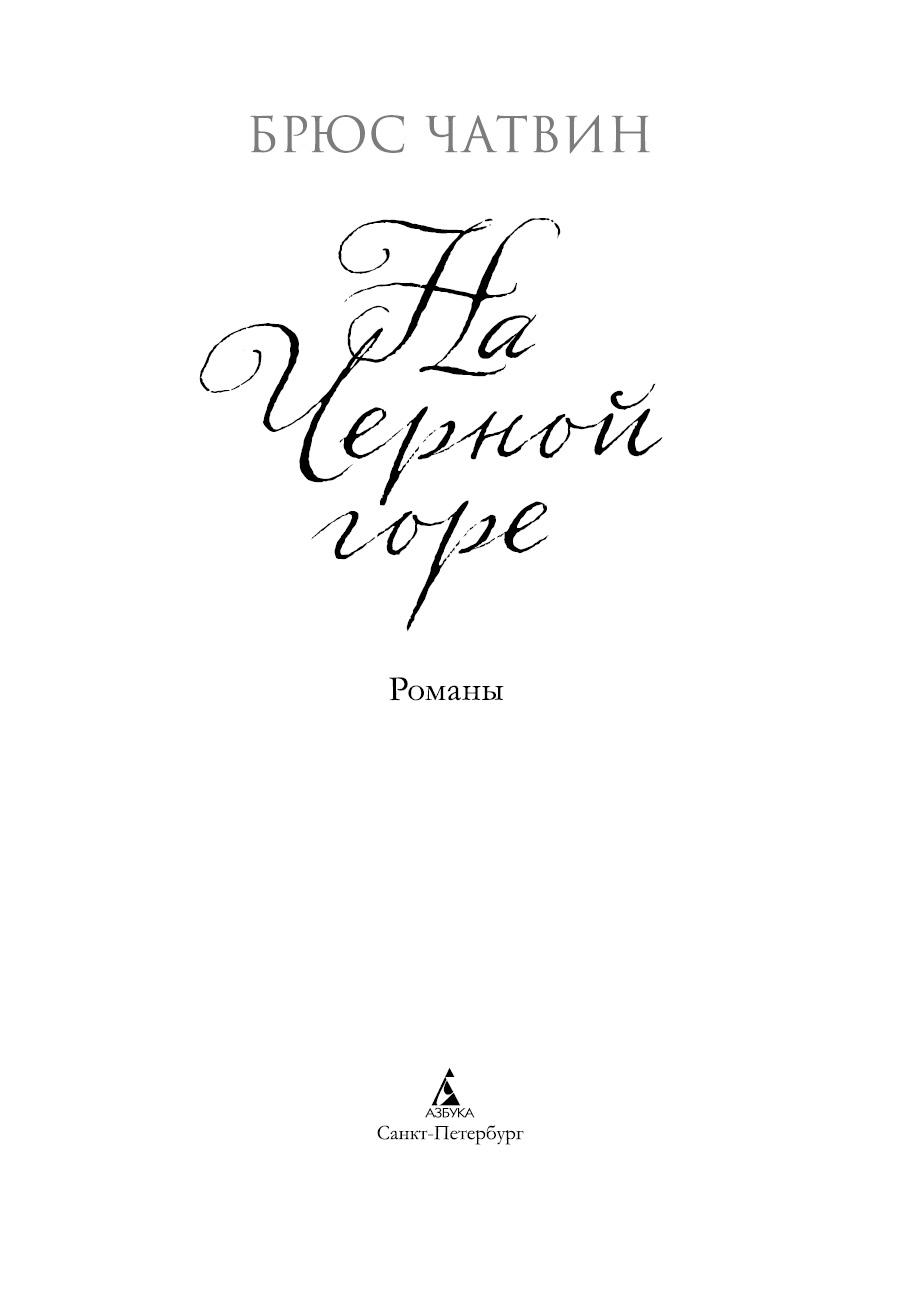
Bruce Chatwin
ON THE BLACK HILL
Copyright © Bruce Chatwin, 1982
THE VICEROY OF OUIDAH
Copyright © Bruce Chatwin, 1980
All rights reserved
Перевод с английского Татьяны Азаркович, Ксении Голубович
Оформление обложки Ильи Кучмы
Карта выполнена Юлией Каташинской
Чатвин Б.
На Черной горе : романы / Брюс Чатвин ; пер. с англ. Т. Азаркович, К. Голубович. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2026. — (Большой роман).
ISBN 978-5-389-31476-4
18+
Брюс Чатвин — известный британский писатель, лауреат многих престижных премий, один из самых влиятельных авторов своего времени. В настоящее издание вошли два его блестящих романа: «На Черной горе» и «Вице-король Уиды».
«На Черной горе» — это эпичная история двух близнецов, проживающих на ферме неподалеку от границы между Англией и Уэльсом. За свои восемьдесят лет они почти не покидали тесный мирок, ограниченный ближайшими городками и фермами, однако в их жизни было все, что отпущено каждому человеку на этой земле: любовь и жестокость, неразделенная страсть и предательство, нежная дружба и мечты о дальних странах... Роман «На Черной горе» принес Брюсу Чатвину почетную Мемориальную премию Джеймса Тейта Блэка, а в 1988 году был экранизирован режиссером Эндрю Гривом.
«Вице-король Уиды» — страстный, визионерский роман, пылающий всеми цветами Африканского континента (недаром его неоднократно сравнивали с «Сердцем тьмы» Джозефа Конрада; иные критики упоминали «черную магию воображения»). Основанная на реальных событиях история бразильского искателя приключений Франсишку Мануэла да Сильвы, который отправился в печально известную Дагомею (ныне Бенин), чтобы стать самым могущественным работорговцем на континенте. Однако Черный континент не знает пощады — ни к чужеземцам, ни к собственным детям, и Франсишку Мануэл становится еще одной жертвой в липких сетях Невольничьего берега… В 1987 году роман был экранизирован режиссером Вернером Херцегом под названием «Зеленая Кобра» (главную роль в фильме исполнил Клаус Кински).
Оба романа выходят на русском языке впервые!
© Т. А. Азаркович, перевод, 2025
© К. О. Голубович, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

Посвящается
Фрэнсису Уиндему и Диане Мелли
Поелику мы задерживаемся здесь недолго и дни нашей жизни сочтены, все равно что у мотылька или у тыквы, нам нужно искать прочного города в ином месте, строить себе дом в ином краю...
Джереми Тейлор [1]
[1] Джереми Тейлор (1613–1667) — английский священник, проповедник и писатель. — Здесь и далее примеч. перев.
1
Вот уже сорок два года Льюис и Бенджамин спали бок о бок в родительской кровати у себя на ферме, которая называлась Видение.
В 1899 году, когда их мать вышла замуж, эту дубовую кровать с балдахином привезли сюда из ее дома в Брин-Драйноге. Выцветший кретоновый полог с узором из живокости и розочек защищал от комаров летом и от сквозняков зимой. В льняных простынях мозолистые пятки протерли дыры, лоскутное покрывало местами заметно поистрепалось. Под матрасом, набитым гусиным пером, лежал другой матрас — с конским волосом, и все это просело в два желоба, образовав холм между спящими.
В комнате всегда было темно, здесь пахло лавандой и камфорными шариками.
Запах камфорных шариков доносился из пирамиды шляпных коробок, громоздившейся возле умывальника. На прикроватной тумбочке лежала подушечка для булавок, все еще утыканная шляпными булавками миссис Джонс, а на торцевой стене в рамке, крашенной под черное дерево, висела гравюра по картине Холмана Ханта «Светоч мира» [2].
Одно из окон выходило на зеленые поля Англии, а другое смотрело на Уэльс — туда, где за группой лиственниц высилась Черная гора.
Волосы у обоих братьев были белее наволочек.
По утрам, в шесть часов, звонил будильник. Они брились и одевались под радиопередачу для фермеров. Спускались вниз, стучали по барометру, разводили огонь и кипятили воду для чая. Потом доили коров, задавали скотине корм и возвращались в дом завтракать.
Стены дома были покрыты грубой штукатуркой с галечной крошкой, кровля из каменной черепицы поросла мхом. Сам дом стоял в дальнем конце участка, в тени старой шотландской сосны. Пониже коровника тянулся плодовый сад с чахлыми яблонями, которым ветер не давал тянуться ввысь, а за ним наклонно уходили вниз поля — к лощине, где вдоль реки росли березы и ольхи.
Давным-давно эта ферма звалась Ти-Крадок (в здешних краях имя Каратака [3] не забыто и по сей день), пока в 1737 году больной девочке по имени Алиса Морган не привиделась Дева Мария, парившая над кустиком ревеня. Алиса прибежала на кухню полностью исцеленной. В память о чуде ее отец переименовал свою ферму в Видение и высек на перекладине над крыльцом инициалы дочери «А. М.», дату и крест. Говорили, что граница между Раднором и Херефордом проходит прямо здесь, посередине лестницы.
Братья были близнецами.
В детстве их умела различать только мать — теперь же прожитые годы и несчастья оставили на них разные отметины.
Льюис был высокий и жилистый, с прямой осанкой и ровной пружинистой походкой. Даже в свои восемьдесят он мог день-деньской ходить по холмам или с утра до вечера орудовать топором и не уставать.
От него исходил резкий запах. Глубоко посаженные глаза — серые, задумчивые, подслеповатые — прятались за толстыми круглыми очками в светлой металлической оправе. На носу у него был шрам, оставшийся после падения с велосипеда, а еще после того случая у него загибался книзу и краснел в холода кончик носа.
Льюис имел привычку при разговоре покачивать головой; при этом он теребил цепочку от часов или вовсе не знал куда девать руки. На людях у него всегда был озадаченный вид, а если собеседник просто констатировал какой-нибудь факт, он говорил в ответ: «Большое спасибо!» или «Очень любезно с вашей стороны!». Все в округе знали, что он отлично ладит с овчарками.
Бенджамин был ниже ростом, розовее лицом, опрятнее и острее на язык. Подбородком он едва не упирался себе в шею, зато нос у него прекрасно сохранился, и в разговоре он пользовался им как оружием. Воло́с на голове у него осталось меньше, чем у брата.
Бенджамин занимался в доме готовкой, штопкой и глажкой, а еще вел счета. Никто лучше него не торговался за скотину — он мог часами яростно сбивать цену, пока барышник не вскидывал руки и не говорил: «Ну ладно, твоя взяла, старый сквалыжник!» А тот с усмешкой отвечал: «Кто-кто?»
На много миль в округе близнецы славились как страшные скряги — но не во всем.
Например, за сено они отказывались брать хоть пенни. Говорили, что сено — Божий дар земледельцу, и если у них в Видении имелись лишние запасы, то соседи победнее могли брать сколько угодно задаром. Даже в самые непогожие январские дни старухе мисс Файфилд с Бугра достаточно было прислать весточку с почтальоном — и Льюис грузил тюки сена на трактор, чтобы ей отвезти.
Любимым занятием Бенджамина было принимать роды у овец. Всю долгую зиму он дожидался конца марта, когда подают голоса кроншнепы и начинается окот. Тогда он, а не Льюис, не спал всю ночь и присматривал за овцами. Когда роды шли тяжело, он сам вытаскивал ягненка. Иногда ему приходилось запускать руку глубоко в овечью утробу, чтобы разделить ягнят-двойняшек. Потом он сидел у огня, немытый и довольный, а кошка слизывала у него с пальцев околоплодную слизь.
Зимой и летом братья ходили на работу в полосатых фланелевых рубахах с медными запонками на шее. Куртки и жилеты у них были сшиты из коричневого габардина, а штаны — из вельвета более темного цвета. Молескиновые шляпы они носили, загнув поля вниз; Льюис имел привычку снимать шляпу перед каждым встречным незнакомцем, поэтому ворс на его тулье совсем поистерся.
Время от времени с какой-то насмешливой чинностью они посматривали на свои серебряные часы — не для того чтобы узнать точное время, а чтобы проверить, чьи идут быстрее. Субботними вечерами братья по очереди мылись в сидячей поясной ванне перед огнем. Жили они ради памяти о матери.
Поскольку каждый из них знал, о чем думает другой, они даже ссорились без слов. Иногда — возможно, после очередной такой молчаливой ссоры, когда им нужно было, чтобы их помирила мама, — они вставали над ее лоскутным одеялом и всматривались в черные бархатные звезды и шестиугольники набивного ситца, которые когда-то были ее платьями. Не говоря ни слова, они снова видели ее: в розовом — идущей по овсяному полю с кувшином процеженного сидра для жнецов; в зеленом — в пору обеда у стригалей овец; или в фартуке в синюю полоску — склонившейся над очагом. А черные звезды приносили воспоминания о гробе с телом отца, стоявшем на кухонном столе, и о плакавших женщинах с белыми как мел лицами.
Со дня его похорон на кухне ничего не менялось. Обои с узором из восточных маков и буроватых папоротников потемнели от копоти, и хотя латунные дверные ручки блестели все так же, как много лет назад, с самих дверей и с плинтусов коричневая краска давно облупилась.
Близнецы никогда даже не думали подновить эту обветшавшую обстановку, боясь уничтожить память о том ясном весеннем утре — больше семидесяти лет назад, — когда они помогали матери помешивать в ведре клейстер из муки с водой и наблюдали, как на ее платке застывают капли побелки.
Бенджамин исправно отскребал от грязи каменные плиты пола, чугунная решетка блестела от графитовой смазки, а на конфорке всегда посвистывал медный чайник.
По пятницам Бенджамин обязательно что-нибудь пек (как когда-то мать): после полудня закатывал рукава, готовясь делать валлийское печенье или деревенский каравай. Он так энергично месил тесто, что от нарисованных подсолнухов на клеенке со временем почти ничего не осталось.
На каминной полке стояли парные стаффордширские фигурки спаниелей, пять латунных подсвечников, кораблик в бутылке и чайница с рисунком китаянки. В застекленной горке (одна ее дверца была подлечена скотчем) хранились фарфоровые безделушки, посеребренные чайники, всевозможные коронационные и юбилейные кру́жки. На полку, прибитую к стропилам, был втиснут свиной окорок. Георгианское фортепиано свидетельствовало об изысканном досуге давно минувших дней.
Рядом с напольными часами Льюис держал наготове дробовик 12-го калибра: оба брата боялись воров и торговцев антиквариатом.
У отца близнецов было единственное хобби (точнее, единственное, что его интересовало в жизни, не считая земледелия и Библии): выреза́ть деревянные рамки для картин и семейных фотографий, которыми было увешано все свободное пространство на стенах. Миссис Джонс всегда удивлялась, как это у человека с таким характером и такими неуклюжими руками хватало терпения для столь кропотливой работы. Но как только мистер Джонс брался за резец и повсюду разлетались мелкие белые стружки, он переставал быть придирчивым грубияном.
Он вы́резал готическую рамку для религиозной цветной гравюры «Широкий и узкий путь», придумал своеобразные библейские мотивы для акварели, изображавшей купель Вифезда. А когда брат прислал ему из Канады олеографию, промазал ее всю льняным маслом, чтобы сделать похожей на работу старых мастеров, и всю зиму напролет корпел над обрамлением в форме кленовых листьев.
И была еще та картина (которая, помимо прочего, имела отношение к легендарному дядюшке Эдди) — с краснокожим индейцем, березовой корой, соснами и багровым небом, — которая впервые пробудила в Льюисе мечту о дальних краях.
Если не считать поездки на море в 1910 году, ни один из близнецов никогда не бывал дальше Херефорда. И все же недоступные горизонты только растравляли в Льюисе страсть к географии. Он донимал гостей расспросами, что́ они думают «о дикарях в Африке», требовал известий о Сибири, о Салониках или Шри-Ланке. А когда кто-нибудь упоминал о неудачной попытке президента Картера освободить заложников в Тегеране [4], Льюис скрещивал руки на груди и решительно заявлял:
— Ему нужно было переправить их через Одессу.
Его познания о мире были почерпнуты из изданного в 1925 году атласа Бартоломью, в котором владения двух больших колониальных держав раскрашивались в розовый и лиловый цвета, а Советский Союз — в блеклый серо-зеленый. Льюиса, привыкшего к порядку, оскорбляло новое лицо планеты, зарябившее множеством грызущихся между собой маленьких стран с непроизносимыми названиями. Словно намекая на то, что настоящие путешествия можно совершать только в воображении (а может быть, желая порисоваться), он зажмуривался и певуче декламировал строки, которые когда-то разучивала с ним мать:
Всё на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата... [5]
Очень часто близнецы горевали при мысли о том, что так и умрут бездетными, однако стоило им только бросить взгляд на стену, увешанную фотографиями, как самые мрачные их мысли тут же улетучивались. Всех, кто был изображен на этих снимках, они знали по именам, и им никогда не надоедало выискивать черты фамильного сходства у людей, родившихся с разницей в сотню лет.
Слева от группового снимка, сделанного на свадьбе родителей, висел портрет их самих в шестилетнем возрасте; они глядели перед собой широко раскрытыми глазами, словно птенцы сипухи, и были наряжены в одинаковые рубашки с отложными воротничками, как у пажей (их тогда собирались вести на гулянье в парк Леркенхоуп). Но больше всего братьев радовала цветная фотография внучатого племянника, тоже шестилетнего, только замотанного в тюрбан из полотенца (он играл Иосифа в рождественском спектакле).
С тех пор прошло четырнадцать лет, и Кевин превратился в высокого черноволосого юношу с кустистыми, сросшимися на переносице бровями и аспидными серо-голубыми глазами. Через несколько месяцев ферма должна была отойти ему.
Теперь, глядя на то поблекшее свадебное фото, на отцовское лицо в оправе из огненно-рыжих бакенбард (даже по фотографии в сепии легко было понять, что он из рыжеволосых), рассматривая рукава жиго на платье матери, розы на ее шляпке и нивянки в ее букете, сравнивая ее милую улыбку с улыбкой Кевина, они понимали, что жизнь не была потрачена даром и время, пройдя через целительный круговорот, смыло боль и гнев, стыд и бесплодность и прорвалось в будущее с обещанием новизны.
[5] Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод Ивана Бунина.
[4] Речь идет о захвате десятков американских дипломатов в Иране после Исламской революции в 1979 году. Заложников удалось освободить только в 1981-м, в день инаугурации Р. Рейгана.
[3] Каратак — кельтский вождь, возглавивший вооруженное сопротивление римлянам, когда в 50-е годы I века они попытались завоевать Британию. Впоследствии исторический персонаж стал прототипом обобщенного героя валлийских легенд.
[2] «Светоч мира» (1854) — символическая картина английского художника-прерафаэлита Холмана Ханта (1827–1910), изображающая Христа с семигранным светильником в руке.
2
Из всех, кто позировал для фото у «Красного дракона» в Рулене в тот душный августовский день в 1899 году, больше всего поводов для радости было у жениха — Амоса Джонса. Всего за неделю ему удалось добиться исполнения двух из трех его заветных желаний: жениться на красавице и взять в аренду ферму.
Его отец, старый пустомеля и любитель сидра, известный в раднорширских пабах как Сэм Телега, начинал свой жизненный путь гуртовщиком и за долгие годы, промышляя извозом, так и не сумел разбогатеть; теперь он жил вдвоем с женой в тесном домишке на склоне Руленского холма.
Ханну Джонс никак нельзя было назвать милой или покладистой женщиной. В молодые годы она без памяти любила мужа, мирилась с его отлучками и изменами и — благодаря своей баснословной скаредности — всегда умудрялась предотвратить приход приставов.
А потом последовали катастрофы, от которых сердце ее очерствело и окаменело, а рот сделался кривым и колючим, будто лист падуба.
Из пятерых ее детей одна дочь умерла от чахотки, другая вышла за католика. Старший сын погиб в угольной шахте в долине Ронты. Ее любимчик Эдди украл материнские сбережения и удрал в Канаду. Так ее единственной опорой в старости остался Амос.
Он был ее последышем, поэтому она нянчилась с ним больше, чем с другими, и отправила в воскресную школу учиться грамоте и страху перед Господом. Амос был неглуп, но к пятнадцати годам мать окончательно разочаровалась в способностях сына и прогнала его из дома, чтобы содержал себя сам.
Дважды в год, в мае и ноябре, он бродил по Руленской ярмарке в ожидании, что какой-нибудь фермер наймет его в батраки; из шапки у него торчал клок овечьей шерсти, через руку была переброшена опрятно сложенная чистая воскресная блуза.
Он нашел работу на нескольких фермах в Радноршире и Монтгомери. Там он научился пахать плугом, сеять, жать и стричь скотину, забивать свиней и вытаскивать овец из сугробов. Когда сапоги окончательно порвались, ему пришлось обмотать ноги полосками войлока. Вечерами после работы у него ныли все суставы. Ужинал он похлебкой из окорока с картофелем и черствыми корками. Чая ему не полагалось — хозяева были слишком прижимисты.
Ночевал Амос на тюках сена в амбаре или на сеновале в хлеву, и зимними ночами, бывало, лежал без сна, дрожа под сырым одеялом: просушить одежду было негде. Однажды утром в понедельник хозяин выпорол его из-за ломтей холодной баранины, которые пропали, когда семья была на службе в молельне, хотя Амос был не виноват (мясо стащила кошка).
Трижды он убегал от нанимателей и трижды лишался платы за труд. И все-таки расхаживал с важным видом, залихватски заламывал шапку и — в надежде понравиться какой-нибудь смазливой фермерской дочке — тратил все лишние пенни на яркие носовые платки.
Первая его попытка соблазнения провалилась.
Чтобы разбудить девушку, он бросил ветку в окно ее спальни, и она тихонько спустила ему ключ. Потом, на цыпочках пробираясь по кухне, он задел ногой табурет и грохнулся. Вслед за ним на пол свалился медный горшок, залаяла собака и откуда-то из глубины донесся мужской голос. Когда Амос выбегал из дома, отец девушки уже стоял на лестнице.
В двадцать восемь лет он сказал, что, пожалуй, эмигрирует в Аргентину: ходят слухи, что там всем желающим дают землю и лошадей. Тогда мать запаниковала и подыскала ему невесту.
Это была очень простая, туповатая женщина лет на десять его старше; она сидела день-деньской, глазея на свои ничем не занятые руки — обуза для своей семьи.
Ханна три дня уговаривала отца невесты отдать ее за Амоса, а заодно выторговала тридцать племенных овец, аренду небольшой фермы Кумкойнант и права на выпас скота на Руленском холме.
Участок оказался паршивый. Он находился на тенистом склоне, и в пору таяния снегов домик вставал на пути у потоков ледяной воды. Все же, арендуя немного земли там и сям, закупая скот совместно с другими фермерами, Амос кое-как выкручивался и уповал на лучшие времена.
Брак этот был безрадостным.
Рейчел Джонс слушалась мужа, двигаясь, как безвольный автомат. Она чистила свинарник в рваном твидовом пальто, перевязанном куском бечевки. Никогда не улыбалась и не плакала, если муж бил ее. На его вопросы отвечала односложно или просто хмыкала. Даже терпя родовые муки, она так сильно стиснула зубы, что не проронила ни звука.
Родился мальчик. Молоко не пришло, и мать отослала его к кормилице. Ребенок умер. А в ноябре 1898 года Рейчел перестала принимать пищу и повернулась спиной к миру живых. Когда ее хоронили, кладбище белело подснежниками.
С того дня Амос Джонс стал регулярно ходить в церковь.
