автордың кітабын онлайн тегін оқу Новые демоны: Современное переосмысление зла и власти

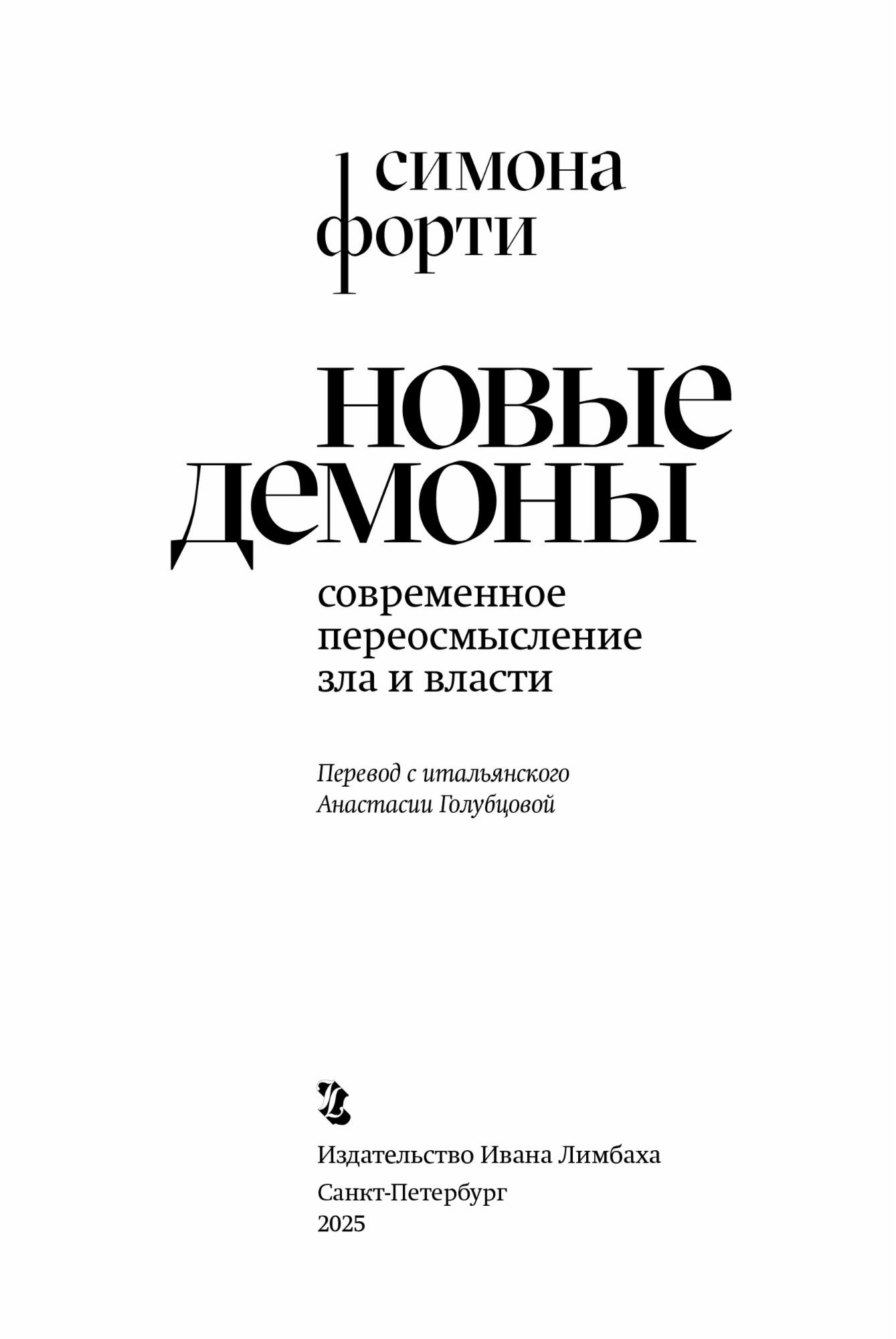
Памяти Линды.
Непредвиденным обстоятельствам,
связанным с Марко и Пьетро
Все, что не автобиографично, — плагиат.
Педро Альмодовар
Введение
1. Эта книга — результат компромисса. Компромисса между желанием, точнее, потребностью продолжать размышлять о зле, и осознанием, что многие понятия, обычно используемые для его осмысления, стали для этого непригодными; между убеждением, что в отношениях власти должен присутствовать этический компонент, и уверенностью, что путь политического морализирования закрыт навсегда. Как сегодня подходить к проблеме зла в соотношении с властью, если любая попытка выступить в защиту блага, в первую очередь блага политического, упирается в нарастающую делегитимацию собственных предпосылок? Может быть, первый и неизбежный шаг — объявить раз и навсегда разрушенными отношения взаимности между добром и злом. Тогда, даже не имея возможности верить в полную осуществимость добра, мы не можем и не должны переставать говорить о зле.
Многое, если не все, связано с проблемой страдания. Точнее, все зависит от того, насколько страдание еще представляет (если представляет) для нас проблему. В философских терминах все зависит от значения, которое мы придаем этой предельной феноменологической данности, которая, даже после деконструкции всех многообразных смысловых наслоений, остается перед нашими глазами: факту страдания и боли. Речь идет не о том неизбежном страдании, которое внутренне присуще нашей жизни в силу ее конечности и уязвимо-сти, а о «бесполезном страдании», говоря словами Левинаса, которое производится внутри человеческих отношений и которое распространяется, ширится и углубляется в зависимости от социального и политического контекста.
Да, зло в истории описывалось многими способами — их было столько же, сколько объяснений и оправданий выработала философия перед лицом смятения, вызываемого страданием, болью и смертью. Но столь же неоспоримо, что оно колебалось между двумя неизменными полюсами, сохранявшимися на протяжении эпох, в которые люди занимались осмыслением зла. Можно сказать, что речь идет о постоянном возникновении одной и той же дилеммы: или зла не существует, потому что страдание «невинно», или же, если считать страдание признаком «вины», зло рискует превратиться в самостоятельную сущность. Или зло является, как мы сказали бы сегодня, культурным предрассудком, который рассыпается, как только мы посмотрим на него с точки зрения целого — от Единого у Платона до Единого-множественного у Делёза, или это некая реальность, противостоящая бытию — от древнего гностицизма до современного «теоконсерватизма». Онтологическая схема не раз получала весьма печальное воплощение в политической мысли: страдание индивидов, проистекающее из насилия и произвола, является или неизбежной и допустимой жертвой ради успеха конечного «проекта», или зримым подтверждением неудержимого разрушительного нигилизма.
Так в каком же направлении двигаться, если мы, разделяя предпосылки критической деконструктивистской (как говорили какое-то время назад) мысли, все же убеждены, что проблема зла не только всегда актуальна — как бы мы ее ни определяли, даже если назовем злом саму идею зла, — но и является, в первую очередь, априорным условием поиска смысла существования человеческого животного? К чему склоняться, если мы не чувствуем себя на своем месте ни среди абстракций нормативной политической философии, считающей, что можно победить негативное начало простым обращением к «ты должен», ни среди «эйфорических» течений онтологического и политического имманентизма, для которого зло — всего лишь тяжелое наследие теологического и метафизического понимания мира? Это немаловажное затруднение, если признать, что сегодняшняя философская арена — по крайней мере, «континентальная» — все сильнее поляризуется между двумя позициями: с одной стороны, религиозное или посткантианское возрождение понятия «радикального зла», которое должно функционировать как негативная норма, из которой по принципу противоположности выводятся скрижали новых категорических императивов; с другой — насмешливое пожимание плечами с намерением ориентироваться на внутреннюю силу жизни вне моральных предрассудков, «по ту сторону добра и зла».
2. Поэтому, чтобы заново определить смысл, который может приобрести сегодня вопрос о политическом зле, я решила пойти по боковому, скажем так, пути генеалогического подхода. Я задумалась о взаимоотношениях зла и власти, сосредоточившись на политических последствиях различных философских предпосылок. Я попыталась реконструировать условия, которые в принципе сделали эти взаимоотношения мыслимыми начиная с позднего Нового времени, чтобы понять, каким образом идеи, определявшие их, поддерживались, переформулировались и забывались.
Исходным пунктом на этом пути может стать кантовская мысль. В работе «Религия в пределах только разума», в которой немецкий философ обращается к проблеме «радикального зла», происходит решительный поворот по отношению к предшествующей философской традиции. Четкое различие между злом физическим, метафизическим и моральным, которое проводит Кант, позволяет заменить исключительно теологический и метафизический вопрос «откуда проистекает зло» на вопрос этический, антропологический и исторический — «почему мы творим зло?» Таким образом, моральное зло для немецкого философа не является ни сущностью, ни небытием. Это действие — действие, тесно связанное со свободой. Однако, хотя Кант и закладывает основы для осмысления сложных переплетений зла и свободы, он, по его собственному признанию, останавливается перед «непостижимостью» корней этой связи. Для него непредставима возможность злых поступков, намеренно нарушающих моральный закон; недопустимо существование человеческих существ, стремящихся к злу из любви к злу.
Пойти дальше кантовского «не сказанного», исследовать «дьявольские бездны» свободы — такой, по-видимому, была цель последующей философии, продолжавшей искать «корень» зла. От Шеллинга до Хайдеггера, от Ницше до Левинаса, от Фрейда до Лакана, — если вспомнить только основных авторов, на чьих работах я остановлюсь подробнее, — можно проследить путь, который радикализирует кантовский вывод и в конце концов переворачивает его, обнаруживая в нарушении Закона, будь то закон божий или императив разума, главную цель совершения зла.
Нигилизм, влечение к смерти, воля к Ничто, при всем многообразии способов их реализации — вот категории, которые определяли горизонт понимания «новых демонов»* в философской мысли XVIII–XIX вв. Зло, понимаемое как патология воли или бессознательный импульс, бред разума или стремление к абсолюту, всегда связано с силами трансгрессии и беспорядка, одним словом — с силой смерти. Эта констелляция обретает образцовое выражение в том, что я называю «парадигмой Достоевского». Не потому что в произведениях великого русского писателя, и особенно в «Бесах»[1] и «Братьях Карамазовых», обнаруживается литературное соответствие какой-либо специфической посткантианской идее зла, но поскольку герои Достоевского, как представляется, воплощают собой совокупность догадок, идей и понятий, взаимоотношения которых, при всей их подвижности, определяются вполне конкретной связью. Схема, которая (не всегда прямо и открыто) складывается начиная со Ставрогина и его товарищей, — pars pro toto* — долгое время выступала как условие мыслимости зла. Вот парадигма, которую я пытаюсь реконструировать и в формировании которой участвовали — в разной степени — Ницше и Фрейд, Хайдеггер и Левинас — те, кто сильнее прочих повлияли на радикальный поворот в истории современного понимания зла. Хотя, возможно, стоит уточнить: это парадигма, в складывание которой внес свой вклад упрощенный способ прочтения этих авторов. Поскольку, как я пытаюсь показать в посвященных им главах, я убеждена, что в некоторых их произведениях, судя по контексту, открывается иная перспектива, относящаяся к другой генеалогии.
На мой взгляд, не подлежит сомнению, что выразительная сила, с которой русский гений живо изображает своих бесов — нигилистов и разрушителей, не только окончательно определяет «тайну» радикального зла, которую не раскрыл Кант, но и проясняет условия, при которых возможно само его существование, связывая его с вопросом власти. Вероятно, в «Бесах» впервые обнаруживается различие между злобой и злом, между способом существования субъекта и, скажем так, системным результатом взаимодействия между субъектами. Если злоба затрагивает структуру сознания индивида, то зло — это способ выражения власти. Точнее, это возникновение в истории, скажем так, злокачественной ситуации, которая является результатом коллективного взаимодействия, предполагающего нарушение границ свободы. Все персонажи по-разному злоупотребляют свободой воли, но не подлежит сомнению, что для Достоевского разные бесы, соответствующие разным способам проявления зла, разделяют одно общее и абсолютное желание: занять место Бога с его бесконечной свободой. Хотя они как конечные создания не способны творить и могут только разрушать. Таким образом, зло входит в мир, по мнению Достоевского и тех, кто идет по его следам, как дьявольская болезнь власти, власти, которая, именно потому, что переходит все границы, не может быть ничем иным, кроме как чистой энергией господства и произвола, неисчерпаемым источником страдания и смерти.
Нигилизм, зло и власть — концептуальный треугольник, в который в результате своего рода секуляризации теологических предпосылок немалая часть философии ХХ века считала возможным вписать все трагедии истории. Воля, всемогущество и Ничто: соответствие между этими тремя терминами, пусть и не в духе религиозности Достоевского, принимается и актуализируется последующей философией, которая, таким образом, продолжает трактовать зло как следствие извращения воли в ситуации всемогущества, как результат того, что суверенный субъект, неважно, коллективный или индивидуальный, возвышается надо всем, тем самым продуцируя Ничто. Это соответствует «простому» и однонаправленному пониманию власти, которое не выходит за рамки модели подданные — суверен, демонический лик которой, как великолепно показал русский писатель, задан отношениями между жертвой и палачом. То есть с одной стороны оказывается всемогущий субъект, сеятель смерти, с другой стороны — субъект, низведенный до чистого объекта, поскольку насилие со стороны субъекта власти обрекает его на полную пассивность. Та же поляризация распространяется на коллективное измерение и позволяет осмыслять его в рамках аналогичной дуалистической структуры, в которой с одной стороны находится вожак, цинично использующий чужие слабости, с другой — масса, слабая и не имеющая возможности для сопротивления. Герменевтический потенциал такой схемы постоянно расширялся, и сегодня в рамках нигилистской гипотезы, которая лежит в ее основе, она включает в себя все ключевые явления ХХ века: тотальную войну, технику глобального разрушения, регулярные геноциды и в особенности Освенцим. Эти феномены — новые способы реализации зла в истории, и наиболее адекватным их объяснением представляется «чистый разгул воли к смерти».
3. Нет сомнений, что пристальное изучение «проклятой части», бездны субъекта и «бытия» помогло преодолеть кантовский запрет. Однако этот способ осмысления зла и власти, а также их взаимоотношений загоняет наше понимание реальности в узкие рамки чересчур схематичных и односторонних категорий. В конечном счете даже в самых сложных размышлениях акцент всегда делается исключительно на «ночном», трансгрессивном лике субъектности, стремящейся к разрушению. Таким образом, дуалистическая схема неизбежно актуализируется и затемняет сложную феноменологию власти и проявлений зла.
Сегодня, как мне кажется, нам пора выйти из «парадигмы Достоевского». Нам стоит отказаться от нее и чтобы понять «черное сердце» ХХ века, и, что еще важнее, чтобы найти подход к современности. Сегодняшняя ситуация уже не позволяет нам трактовать власть как простое прямолинейное отношение между суверенным государством и индивидами как носителями прав. В то же время политическое зло, включая и то, которое присутствует в западных демократиях, уже не получается объяснять исключительно как результат чистого разгула злобы. Арена проявлений зла очень сложна, здесь не правят безраздельно воля к Ничто и влечение к смерти. Политическая философия слишком надолго застряла в этой парадигме и так и не освободилась до конца от понятия господства, тесно связанного с этой «грандиозной» идеей зла. То есть она по-прежнему осмысляет отношения власти, становящиеся воплощением зла, в рамках дуалистических, строго поляризованных представлений. Словно в истории вечно повторяется не раз описанная Достоевским сцена насилия над невинной жертвой, которой по определению являются дети. Политические трагедии, самые мрачные события трактуются согласно этой топологии: злобные демоны с одной стороны и абсолютные жертвы с другой.
Таким образом, метафизическое и теологическое априорное представление, зачастую неосознанно, продолжает определять наше мышление. Мы словно отказываемся смотреть вглубь сложного переплетения политических отношений и не желаем задумываться о том, что происходит до возникновения финальной ситуации господства, в которой действительно царит абсолютная асимметрия. Следовательно, необходимо разрушить это демоническое понимание власти и обратиться к анализу, который не сводил бы зло исключительно к желанию и воле к смерти.
Мысль Ханны Арендт и в особенности Мишеля Фуко дала важный импульс изменению перспективы, среди прочего открыв путь для разработки современной концепции биополитики и биовласти. Оценив вклад обоих авторов, в центральной части книги я остановлюсь на ряде интересных дискуссий, развернувшихся на почве переосмысления их наследия. От исторических исследований случаев геноцида до работ по расовой теории, изучение биополитики немало способствовало переносу фокуса внимания с власти как способности к причинению смерти на стратегии максимизации жизни; оно направило исследовательское внимание на то, каким образом жизнь, воспринимаемая как единственная и неоспоримая ценность, начала служить массовому производству смерти. Целая область мысли и исследований изменила (так и не признав это открыто) свой взгляд на зло, поставив в центр внимания не всемогущую волю злодеев, а состояние жертв, превращенных в расходный материал во имя жизни, понимаемой как абсолютная необходимость.
Не подлежит сомнению, что никакое переосмысление взаимоотношений между злом и властью невозможно без обращения к исторической ситуации, высшим воплощением которой стал Освенцим, и к различным способам ее понимания. Однако до сих пор многие вопросы остаются без ответов. Как понимать статус «абсолютной жертвы» в связи с научным и идеологическим принципом защиты жизни? Если исходить из предпосылки — ставшей всеобщим убеждением среди историков, — что для организации геноцида необходимо расчеловечивание и десубъективация будущей жертвы, все же стоит глубже изучить, как происходит это процесс. Действительно ли к этому приводит развитие, скажем так, «откровенного» нигилизма, выходящего «за пределы добра и зла»? Эти вопросы я задаю себе, перечитывая нацистские работы по расовой теории и выделяя в них две ключевые линии: образ паразита и соотношение между Душой, Телом и Типом. Верно ли, как утверждают многие исследователи биовласти — от историков геноцида до постфукольдианских мыслителей, — что в расистском дискурсе тело будущей жертвы истребления лишается человеческого и морального значения? Может быть, оно, напротив, насыщается «гиперморальным» смыслом, который претендует на верное понимание того, как отделять смерть от жизни? Я считаю, что представление о нейтральности знания, называемого научным, вовсе не утонуло в волнах нигилизма, а, напротив, сохраняет свое влияние, действуя через традиционную дихотомию добра и зла.
4. Итак, как же окончательно освободиться и от дуалистической культуры, которая питает проявления зла, и от зачастую неосознанного дуализма с противоположным знаком, свойственного многим мыслителям, оценивающим эти проявления? Конечно, я не собираюсь утверждать, что палачей не существует, или что они невиновны, или что жертвы сами виноваты. Однако мне кажется, пора разрушить эти логические дихотомии и превратить их в поле взаимодействия разных сил и тенденций, в котором антиномии утрачивают свою сущностную определенность. Моя цель — не противопоставить «парадигме Достоевского» зеркально противоположный образ мысли, а добавить к ней другую парадигматическую совокупность концепций, которая могла бы вобрать в себя и в то же время расшатать ее строгую геометрию, основанную на разделении абсолютного субъекта и абсолютного объекта господства. Это позволит нам выявить иную генеалогию взаимоотношений зла и власти — генеалогию, которая наконец-то поставит под сомнение казавшуюся неразрывной и неизменной связь между трансгрессией, властью и смертью, то есть тот самый подход, в рамках которого, начиная с Третьей главы книги Бытия, зло традиционно трактовалось как поступок существа по природе своей мятежного, в глубине души желающего достичь божественного всемогущества. На мой взгляд, главную опасность, которой нам следует остерегаться, уже давно представляет вовсе не эта антропологическая фигура. Я думаю, что сегодня больше, чем когда-либо следует с подозрением относиться к тому стремлению к норме и конформизму, которое наполняет наше существование безответственностью и безразличием, — стремлению, которое философия, за исключением нескольких примеров, не захотела или не сумела исследовать.
Итак, во второй и последней части книги я пытаюсь связать воедино все нити, чтобы выработать новый способ осмысления диады зла и власти и наметить новую парадигму — парадигму «заурядных демонов», или «нормальности зла». Очевидно, сколь многим я обязана в интеллектуальном плане знаменитой работе Ханны Арендт «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме» — книге, которая сумела сделать конкретное событие символом эпохи, превратить процесс над Адольфом Эйхманом в попытку общего исторического и теоретического переопределения многих политических проблем. Однако Арендт скончалась, не успев дописать «Жизнь ума» и не разработав в полной мере ту совокупность идей, которые связывают зло с отсутствием критического мышления и конформизмом. Она намеревалась дать структурированное осмысление этой связи, однако соединяла ее существование не вполне, на мой взгляд, с убедительным принципом «банальности зла», который оставил нам длинный ряд вопросов, не получивших ответа.
К настоящему моменту было предложено множество способов продолжить и развить наследие Ханны Арендт. Исторические науки и некоторые течения социальной психологии первыми попробовали оспорить тождество зла и трансгрессии, попытавшись разобраться в так называемых «преступлениях послушания». Я кратко опишу эти попытки и попытаюсь обозначить границы подобных подходов с точки зрения философской мысли. Однако, заявляя, как они это делают, что зло системно и не является результатом врожденной «предрасположенности» преступников, нельзя ограничиваться одним лишь утверждением, что зло есть результат давления в ситуации авторитарной власти. Конечно, зло — это система в смысле переплетения субъектностей, сложной сети отношений, узлы которой завязываются благодаря идеальной взаимодополняемости вдохновителей и организаторов (немногочисленных), убежденных и ревностных исполнителей (также немногочисленных) и покорных, а не просто безразличных зрителей (множества). Но почему эти шестеренки так крепко держатся и свободно крутятся?
Мыслить в парадигме «заурядных демонов» означает, прежде всего, ставить под сомнение — как я уже не раз отмечала — эксклюзивную роль воли и стремления к смерти и воспринимать феномены зла как проявления воли к жизни, как результат попытки максимизировать жизнь. Это означает, в числе прочего, обращать внимание не столько на «вину» трансгрессии, сколько на подспудную нормативность отказа от суждения, усвоенную и одобряемую в рамках той морали, которая так часто учила нас, что склонность судить есть признак гордыни, тень первородного греха, совершенного нашими прародителями, — греха непослушания.
«Заурядные демоны», очевидно, не заменяют «абсолютных демонов». Не это я хочу сказать своей работой. «Абсолютные демоны» существуют, они существуют и сегодня, но их начинания успешны лишь потому, что они идеально сочетаются с желаниями всех, кто слишком занят устройством собственной жизни и приспосабливается без возражений.
Поэтому сегодня важно не стремиться к недостижимой цели избавиться от субъекта, которого мы имплицитно продолжаем воспринимать как синоним насилия и высокомерия: важно задать себе вопрос, как власть и субъектность формируются и взаимно усиливают друг друга. Задуматься не столько о том, почему становятся злыми субъектами, а о том, почему, а главное — как становятся послушными субъектами; нужно не только понять, какое безумие мотивирует нас реализовывать наше всесилие, но и попытаться объяснить, какое желание лежит в основе нашего стремления к конформизму.
Генеалогия «заурядных демонов» — и, опосредованно, пастырской власти — должна попытаться свести воедино философские выкладки, в которых, пусть и не напрямую, ставились те же вопросы. Так, я обнаружила в трудах Ницше пассажи, в которых критика демократии, пассивности и конформизма вовсе не так «проста» и в которых воля к жизни играет глубоко неоднозначную роль. Я подробно остановилась на обнаруженной преемственности между христианством и современным миром, желая подчеркнуть и использовать в своих целях ту сложность, с которой Ницше описывает процесс субъективации, сделавший человеческое животное покладистым и покорным, управляемым и послушным, предлагая нам одну из первых и самых убедительных попыток изучения связи между субъектностью и властью. Я искала у Мишеля Фуко, в его специфическом развитии ницшеанской линии, возможность определить политическое зло и описать его как высшую степень субъектной зависимости в «состояниях господства», подавляющих динамику и игру свободы и власти. Из его работ, посвященных управлению и пастырской власти, и еще в большей степени из лекций последних лет, посвященных «заботе о себе» и парресии*, я заимствовала аргументы, позволившие мне сформулировать хотя бы неполные ответы на вопросы, составляющие центр парадигмы «заурядных демонов». Прежде всего: как закрепляются отношения подчинения? Какой тип субъективации на христианском Западе позволил отношениям заботы и защиты превратиться в идеальный механизм установления зависимости? И еще: каковы условия, создающие возможность сопротивления политическому злу? Почему целая область опыта, от античной «заботы о себе» до античной же парресии, была заслонена целым спектром примеров, на которых можно строить свое этическое и политическое поведение? Одним словом, возможен ли другой способ становиться субъектами?
Если бы это было так, это могло быть только результатом этоса, меняющего наше восприятие жизни и смерти и их взаимоотношений; результатом «образа жизни», не скрывающего собственную внутреннюю двойственность и не овеществляющего ее в виде внутренней сущности блага и внешней сущности зла. Эти вопросы и возможные ответы не только обладают индивидуальным этическим смыслом, но и могут приобретать непосредственное политическое и коллективное измерение: именно это я пытаюсь показать, реконструируя теоретические (и не только) связи фукольдианской мысли с философией так называемого диссидентства в Центральной и Восточной Европе, в особенности с некоторыми пражскими мыслителями — от Паточки до Гавела — участниками группы, сложившейся вокруг Хартии-77. Сегодня переосмыслять философско-политический вклад «диссидентов» во многих отношениях проще, чем это было раньше, поскольку многие из обращенных к ним обвинений в антикоммунизме и поддержке капитализма совершенно утратили смысл. Однако моя цель не реабилитировать эту, несомненно, важную и малоизученную главу в истории европейской культуры, а найти практическое доказательство революционного характера того этоса, который каждый раз заново ставит вечную и нерешаемую проблему значения «жизни в правде». Ведь «говорение правды», которое подразумевает практика парресии, на самом деле есть не что иное, как свидетельство жизни, безжалостно исследующей саму себя на предмет собственной внутренней конфликтности и потому избирающей «внутреннюю анархию» той почвой, в которой может укорениться новая политическая добродетель в надежде, что она путем своеобразного заражения сможет перейти и в коллективную жизнь. В полном согласии с Федором Достоевским, который, следуя самым авторитетным теологическим и метафизическим воззрениям на зло, был убежден, что подрывная сила бесов иссякнет, только когда два сольются в Одном.
В сущности, именно над политическими последствиями рокового дуалистического противопоставления жизни и смерти мужественно размышлял и писатель Примо Леви. Может быть, не случайно он так и не смог полюбить Достоевского. Его последнее произведение, «Канувшие и спасенные», может быть прочитано как опровержение «Бесов» и легенды о Великом инквизиторе, того манихейского понимания власти, в котором распахивается непреодолимая пропасть между лихорадочной волей к власти и смерти у злодеев и пассивной покорностью у масс. Всё в «Канувших и спасенных» заставляет нас задуматься о нормальном и в то же время извращенном функционировании серой зоны, в которой, к сожалению, соединяются противоположные полюса внутренней иерархии Освенцима. Осмыслить приглушенные тона взаимосвязей между злом и властью, в том числе — и особенно — с точки зрения стремления к жизни, — вот, на мой взгляд, та трудная задача, которую оставили нам в наследство последние слова туринского писателя. Конечно, они относились не только к ситуации лагеря смерти. Даже в значительно менее трагических обстоятельствах отделение жизни от смерти и абсолютизация их противопоставления всегда может послужить условием для проявления зла. По крайней мере, на мой взгляд, именно так следует понимать «Канувших и спасенных».
Благодарности
Написание этой книги заняло у меня по меньшей мере пять лет, а за это время может накопиться бессчетное количество «долгов». Надеюсь, в тексте будут заметны знаки моей благодарности многим авторам, общение с которыми больше напоминало дружеское соперничество, чем простой обмен информацией.
Однако некоторых людей я не могу не упомянуть: прежде всего, это Аннализа Черон и Андреа Ланца, которые вместе со мной читали и перечитывали рукопись.
Кроме того, я благодарю Джорджо Барбериса, Лауру Баццикалупо, Ричарда Бернстайна, Джан Марио Браво, Карло Галли, Оливию Гваральдо, Маурилио Гваско, Мигеля Ваттера и Густаво Загребельски, Адриану Кавареро, Барбару Карневали, Саманту Новелло, Пьера Паоло Портинаро, Марко Ревелли, Луку Саварино, Золтана Санкаи — увы, слишком поздно, Габриэллу Сильвестрини, Мауро Симонацци, Луку Скуччимарра, Доменико Таранто, Давиде Тариццо, Анджело Торре, Франческо Туккари, Агнеш Хеллер, Симону Черутти, Роберто Эспозито за то, что помогали мне разными способами и в разных обстоятельствах: выслушивали и давали советы, подбадривали и упрекали, рекомендовали книги и предостерегали от ошибок.
И наконец, я должна поблагодарить тех, кто буквально поддерживал меня на протяжении этого периода: Сюзи Бигарелли, которая своей любовью и иронией как никто другой помогала мне справляться с плохим настроением, и Мануэлу Черетта, которая делила со мной бесконечные дни моего затворничества в Национальной библиотеке Франции в Париже: уверенность, что вечером мы встретимся и будем беседовать, обмениваться комментариями и шутками, превратила эти дни в одно из самых приятных воспоминаний тех лет. Отдельное спасибо Грацие Кассара, которая верила в мою работу, даже когда из-за постоянных проволочек складывалось впечатление, что ее вообще не существует. Благодаря ее уму и такту я смогла продолжить свой проект. Я также очень благодарна Донателле Берази и Альбертине Черутти за их терпение и профессионализм.
И наконец, спасибо Марко Джеуна: если бы не его суровость и перфекционизм, эта книга была бы закончена раньше, но без его помощи и безграничного понимания она не состоялась бы вовсе.
Нью-Йорк, январь 2012
[1] Осознавая, что это может вызвать возражения, по согласованию с издателем я решила использовать в тексте термин «бесы» (demoni) без диакритических знаков, но указать в примечании итальянский перевод этого произведения Достоевского с названием, выбран-ным издательством «Эйнауди», с циркумфлексом над последней «i» (demonî).
* Использованное в оригинале слово «demoni» отсылает в первую очередь к «Бесам» Ф. М. Достоевского (итал. «I demoni»), однако представляется уместным переводить его как «демоны», поскольку в книге этот термин является аллюзией не только на Достоевского, но и на другие источники — например, на диалоги Платона (см. раздел о «демоне Сократа»). Знаком * здесь и далее обозначены примечания переводчика.
* Часть вместо целого (лат.).
* Парресия (от греч. pan (всё) и rhema (то, о чем говорится) — вербальная деятельность, в которой говорящий выражает личное отношение к истине, ради которой он готов рисковать своей жизнью, потому что он признает правдивость как обязанность заботиться о других людях (а также о себе). В парресии говорящий пользуется своей свободой и выбирает откровенность вместо недомолвок, правду вместо лжи или молчания, риск смерти вместо жизни и безопасности, критику вместо лести и моральный долг вместо корысти и моральной апатии.
[1] Осознавая, что это может вызвать возражения, по согласованию с издателем я решила использовать в тексте термин «бесы» (demoni) без диакритических знаков, но указать в примечании итальянский перевод этого произведения Достоевского с названием, выбран-ным издательством «Эйнауди», с циркумфлексом над последней «i» (demonî).
* Парресия (от греч. pan (всё) и rhema (то, о чем говорится) — вербальная деятельность, в которой говорящий выражает личное отношение к истине, ради которой он готов рисковать своей жизнью, потому что он признает правдивость как обязанность заботиться о других людях (а также о себе). В парресии говорящий пользуется своей свободой и выбирает откровенность вместо недомолвок, правду вместо лжи или молчания, риск смерти вместо жизни и безопасности, критику вместо лести и моральный долг вместо корысти и моральной апатии.
* Часть вместо целого (лат.).
* Использованное в оригинале слово «demoni» отсылает в первую очередь к «Бесам» Ф. М. Достоевского (итал. «I demoni»), однако представляется уместным переводить его как «демоны», поскольку в книге этот термин является аллюзией не только на Достоевского, но и на другие источники — например, на диалоги Платона (см. раздел о «демоне Сократа»). Знаком * здесь и далее обозначены примечания переводчика.
Часть первая
Абсолютные демоны: власть Ничто
1. Парадигма Достоевского
1. Призрак Ставрогина
«Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти, и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть <…>. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен»[1].
Конечно, в этом описании нельзя не заметить аналогию, которую проводит Достоевский. Сходство между Ставрогиным и Люцифером очевидно. Подобно Люциферу, сначала прекраснейшему из ангелов, а затем падшему, Ставрогин является носителем всех тех противоречий, которые делают его не только величайшим, но и грандиознейшим из грешников. Даже его красота, ослепительная и величественная, таит в себе силу демонического очарования, которое одновременно и привлекает, и отталкивает. Слишком самолюбивый, чтобы любить кого-то еще, слишком умный, чтобы быть фанатиком, слишком разочарованный, чтобы не замечать за собой вины, — все в нем отмечено знаком чрезмерности. И, как указывали многие толкователи Достоевского, с появлением Ставрогина в повествование не только врывается самый зловещий герой «Бесов». Вместе с ним возникает призрак грядущего века. То есть в нем проявляется дух нигилизма во всех своих многочисленных преломлениях. Нигилизмом отмечена последняя эпоха истории человечества, когда, по мнению гениального русского писателя, Ничто занимает место Бога — место, ранее уже узурпированное человеком, которого позитивистский оптимизм наделил божественным достоинством.
В лице этого молодого человека, выросшего без корней, без отца и без родины, автор описывает то, что для него есть неизбежное следствие утраты смысла. Ставрогин, задуманный Достоевским как центральная фигура романа, является одновременно и центром, к которому тяготеют все остальные персонажи, и точкой, из которой исходят все возможные траектории силы отрицания. Его разум перешел все границы и прикоснулся к Ничто; его страсти заставили его испытать все возможные излишества и оставили после себя пустоту. Таким образом, Ставрогин не просто совершенное воплощение удивительных психологических возможностей писателя. Намерения Достоевского были гораздо более амбициозными: сжато выразить в правдоподобной феноменологии человеческого субъекта определенные философские воззрения. Он уже знает то, что позже сформулирует Ницше: нигилизм выходит далеко за пределы простого уничтожения традиционных моральных ценностей и их религиозных оснований[2]. Поэтому Достоевский в своих произведениях неизбежно касается онтологического разрыва, оставляющего отпечаток в человеческой реальности и в истории. Начиная с героя «Записок из подполья»[3], развитием и реализацией которого является Ставрогин, все персонажи Достоевского несут на себе знаки «революции духа».
Я здесь не собираюсь вставать на чью-либо сторону в вековой дискуссии о философском статусе творчества Федора Достоевского: представляет ли оно, в том числе и в философском плане, окончательную победу подлинного и глубокого христианства над грехом и виной, или же насквозь, в каждом своем моменте, пронизано неизбывным трагизмом[4]. Не собираюсь я и высказываться за или против тех — от Шестова до Дживоне, включая великолепную интерпретацию Парейсона[5], — кто делает из русского писателя великого мыслителя, который предвосхищает Ницше, а во многих отношениях даже опережает его, успешно избегая мыслительных маневров Хайдеггера. В связи с этим вспомним только, что еще молодой Лукач[6] подчеркивал «ничтожность Ницше» по сравнению с масштабностью Ставрогина. То есть он увидел в этом персонаже и в «Бесах» в целом решительный шаг, без которого Запад не смог бы в полной мере осознать себя. Я говорю об этом, только чтобы напомнить, что многие авторитетные мыслители разделяли и до сих пор разделяют категоричный тезис Бердяева: «...мы давно уже философствуем о последнем под знаком Достоевского. Лишь философствование о предпоследнем связано с традиционной философией»[7].
Оставляя открытыми подобные вопросы, не углубляясь в загадочные проблемы интерпретации, которые ставит творчество Достоевского перед своими самыми философски настроенными читателями, мы все же можем с уверенностью утверждать, что оно знаменует собой коренной перелом. Именно поэтому я считаю, что мы имели и имеем право переводить литературный вымысел, воплощенный в нем, в философские категории. Категории, которые, на мой взгляд, позволили по-новому поставить в европейской культуре вопрос зла, неразрывно связав его с проблемой нигилизма. Радикальность Достоевского, выходя за пределы традиционного понимания учения о первородном грехе, затрагивает не только этику и религию, но и «онтологически» связывает в единый узел зло и Ничто, свободу и волю. В этом смысле «призрак Ставрогина», pars pro toto, долгое время продолжал присутствовать в философии и даже сегодня, по примеру «Бесов», служит источником для интересных, хотя и чересчур импрессионистичных трактовок исламского терроризма[8].
Далее, во второй части книги, я укажу, как важно избавиться от односторонности такой постановки вопроса, чтобы понять наше настоящее; насколько эта герменевтическая линза во многих отношениях чересчур зависима от теологического ви´дения взаимосвязи между злом и свободой. Пока же будем придерживаться той неоспоримой истины, что именно фигура Николая Всеволодовича Ставрогина, его мысли, его действия, его «друзья» породили те предпосылки, которые позволили философии, начиная с Ницше, углубиться в непостижимые глубины зла. Предпосылки, которые, будучи переведенными в форму понятий, очерчивают горизонт, внутри которого, по мнению представителей большей части философской культуры ХХ века, могут осмысляться те аспекты идеи зла в ее связи с властью, которые замалчивались в предыдущей традиции. Поэтому я считаю, что мы смело можем говорить о «парадигме Достоевского» — то есть особой связи понятий, определенном соотношении категорий, отсылающем к конкретному смысловому узлу, который — пусть опосредованно и скрыто — долгое время считался необходимым условием для осмысления зла. Это парадигма, к которой принадлежат, пусть и по-разному, Ницше и Фрейд и не в меньшей степени Хайдеггер: те, кто внес наибольший вклад в современный переворот в генеалогической истории идеи зла. Но, возможно, правильнее было бы говорить о парадигме, к которой относятся отдельные специфические черты мысли Ницше, Фрейда и Хайдеггера. Ведь, как будет показано далее, я убеждена, что в их текстах нередко открывается и альтернативный ракурс рассмотрения этой проблемы.
Итак, для начала зададим себе вопрос: что олицетворяет собой Ставрогин? Символом чего служат, помимо него самого, Степан и Петр Верховенские, Кириллов и Шатов? А также о чем говорят нам трое «злых» братьев Карамазовых, так резко противопоставленных обезоруживающей чистоте Алеши? Как следует осмыслять всех этих «бесов»? К какой философской идее подводят нас их жизнеописания, которые на сегодняшний момент представляют собой один из самых монументальных примеров феноменологии зла? Прежде всего, они, благодаря своей выразительной силе, размыли ту почву, в которой коренились традиционные теологические и философские концепции. Действительно, мы имеем здесь дело с персонажами, играющими парадигматическую роль, выступающими в качестве наглядных примеров. Каждый из них имеет имя и фамилию и является носителем индивидуальности, глубоко укорененной в контексте повествования, но, проявляя свое абсолютное своеобразие, они в то же время воплощают собой определенный человеческий тип, который можно выразить в виде последовательности теоретических понятий. Можно сказать, что каждому персонажу соответствует свой способ бытия зла: в результате складывается сложная феноменология, дифференцированная в своих элементах и все же составляющая связное и структурированное целое.
Итак, у Достоевского зло описывается множеством способов[9], однако все они входят в одну и ту же парадигму, структуру которой, по моему убеждению, подсказал нам он сам. Если, как уже было сказано, в рамках его представления о неразрывной связи между свободой и Ничто последующая философия может по-новому осмыслить проблему зла как проблему нигилизма, принадлежность к этой парадигме для будущих мыслителей вовсе не означает непременной необходимости разделять убеждения и цели русского писателя и тем более следовать по его стопам в отношении к религии, христианству и православию. Идти по дороге, открытой создателем «Бесов», означает — прежде чем мы коснемся каких-либо содержательных аспектов — отказаться от стратегий, которыми до этого момента пользовалась философия. Это значит, с одной стороны, закрыть путь любым попыткам метафизической, наивно-дуалистической ресубстанциализации, с другой — выступить против всех возможных версий платонической схемы несуществования зла. Это значит отвергнуть как теологическую, так и философскую теодицею. И главное, оставить все те стратегии, с помощью которых современный рационализм пытался избежать этого вопроса или нейтрализовать его. Здесь мы можем совместить тезис Шестова[10] — по мнению которого настоящую «критику разума» создал не Иммануил Кант, а Федор Достоевский, — с утверждением, что подлинная «радикальность зла» осмысляется в сюжете «Бесов», а не в рассуждениях «Религии в пределах только разума»[11].
2. То, о чем Кант не осмелился подумать: Кант и Шеллинг
Возможно, правильнее было бы сказать, что Достоевский доводит кантовские заключения до предела, так что мысль Канта выходит за собственные границы и даже начинает противоречить самой себе. Ведь не подлежит сомнению, что на извилистом пути, по которому шла философия в осмыслении зла, его три Критики знаменуют собой ключевой этап.
Если, как утверждает Рикёр, мифы, говорящие о зле, были первым инструментом символического и лингвистического опосредования, позволяющим определить и объективировать смысл неясного, трудновыразимого, пугающего опыта[12], какую функцию выполнял философский разум? Каким образом его действие позволило нам дистанцироваться от первичного, наивного «спонтанного манихейства», резко разделяющего и противопоставляющего реальность добра и реальность зла? Идея совпадения Бытия и Блага и принадлежности Зла к области Небытия, как известно, берущая начало у Платона и развитая Августином, пожалуй, представляет собой самый устойчивый ответ метафизики на этот вопрос, сохраняющийся, несмотря на все лексические и концептуальные изменения. Однако существует очевидная опасность, связанная с деконструкцией дуалистического субстанциализма: зло утрачивает свой драматизм до такой степени, что сила негативного превращается в нечто сугубо функциональное по отношению к позитивному. Балансируя на грани этого двойного риска — «реалистического» дуализма с одной стороны и идеалистического или исторического редукционизма с другой, — философия в моменты своего наивысшего развития упорно пыталась предотвратить эту опасность. Для этого она прибегала, скажем так, к «революционной» силе — той, которая постулирует тесную связь между злом и свободой,превращая зло в условие существования свободы. Правда, перед бездной бессмысленности Бытия и Бога, которую, казалось, открывала эта перспектива, философия каждый раз отступала, возвращаясь в привычную колею. Это чередование и определяло развитие проблемы зла до конца Нового времени, как в теологии, так и в метафизике. Философская мысль непрерывно колебалась между дуализмом и его нейтрализацией, между пониманием зла как субстанции и другой трактовкой, отрицающей реальность зла. Лишь иногда философии удавалось уйти от этой альтернативы, обращаясь к понятию морального зла, предполагающего существование реальной, неограниченной свободы.
Представляется (с оговорками), что Августин своим личным поиском предвосхитил траекторию будущих решений этого вопроса. Как известно, в борьбе с манихейством, которого он придерживался в прошлом[13], — а возможно, с искушением, от которого так и не смог полностью освободиться, — он принимает идеи Плотина, позволяющие придать злу смысл, не впав при этом в логическое противоречие. Зло не может быть субстанцией, потому что помыслить Бытие — все равно что помыслить Единое, а значит, помыслить Благо[14]. Но за рамками этой перспективы у Августина появляется новое понимание Ничто — Ничто, относящееся к творению ex nihilo и связанное с идеей абсолютного начала, которая предполагает понимание негативного как меры расстояния между творцом и творением и указывает на онтологическую неполноценность тварного мира как такового[15]. Поэтому убеждение, что метафизическое зло есть искажение перспективы, с которой человеческое существо в своей конечности воспринимает и оценивает мир, сосуществует с идеей морального зла как порождения вины, греха, извращения, уводящего человеческую волю с верного пути. Августин, как и Павел, знает, что человек способен переступить пределы дозволенного, нарушить порядок бытия[16]. Он также знает, что, однажды открыв свою душу этому порядку, причастному Божественной реальности, человек испытывает такое чувство полноты собственного бытия, что потом неизбежно воспринимает возвращение к обычному состоянию как ущерб. Это самый важный отпечаток, который Ничто, откуда человек был приведен в бытие, накладывает на творение. Если здесь онтологический путь privatio boni и моральный путь субъективной перспективы еще логически неразличимы, в Новое время они будут расходиться все дальше[17].
Не кто иной, как Кант делает решительный шаг, вновь связывая моральное зло с человеческой свободой. Под ударами, нанесенными рациональной теологии, благодаря которым теодицея начинает восприниматься как «трансцендентальная иллюзия», кантианская критика закладывает фундаментальные основы деконструкции онтотеологии. С этого момента будет крайне трудно вновь говорить о зле tout court*. Если ранее этот термин охватывал совокупность многообразных феноменов и понятий — от стихийных бедствий до страдания, от метафизического принципа до индивидуальной смерти, — начиная с Канта моральное зло приобретает полную философскую автономию. Как подчеркивает Ричард Бернстайн[18], кантианская мысль пробивает ту брешь, благодаря которой становится возможно провести четкое различие между злом физическим, метафизическим и моральным. Происходит поворот, в результате которого проблема утрачивает свой сугубо теологический и метафизический характер, и ее ключевой вопрос приобретает иную формулировку: не «откуда берется зло?», а «почему мы совершаем зло?»
Для некоторых это шаг назад по сравнению с критической перспективой философа, для других — логичное и новаторское развитие[19], но в любом случае кантианское «радикальное зло» закладывает основы современного и постметафизического осмысления проблемы. Нет сомнений, что, как отмечает Рикёр, проблема зла всегда служила теоретическим механизмом пересмотра философских систем; то есть философия всегда использовала возникновение нового вопроса о зле как инструмент подрыва предыдущей философской системы в череде попеременного конструирования и деконструирования. Однако с приходом Канта совершается решительный поворот: для него концепция malum metaphysicum и идея privatio boni в равной степени означают отрицание личной ответственности, однако и учение о первородном грехе также ограничивает изучение связи зла и свободы.
На самом деле понятие «радикального зла», каким оно предстает в работе 1793 года «Религия в пределах только разума», порывает не только с теодицеей. Оно не просто отрицает оправдание, предлагаемое нам в теологическом и телеологическом понимании истории, которое Кант отвергает и в его рационалистическом, и в просвещенческом варианте. Оно предполагает отказ не только от августиновского и лейбницевского ви´дения, но и от самой идеи существования «первородного греха». Принцип зла никоим образом не может быть первородным, не может «по необходимости» передаваться всему человеческому роду. Зло, подразумеваемое самим понятием natura lapsa*, принципиально неискупимое — разве что посредством Божественной воли, — в его глазах рискует обрести непреодолимую власть, по отношению к которой нравственный закон бессилен. Учение о первородном грехе, — а Кант, очевидно, имел в виду, прежде всего, лютеранское понимание греха, которое связывает возможность добрых поступков исключительно с Божьей милостью и потому отрицает свободу воли, — основывается не только на представлении о порочности человеческой природы, но и предполагает, что одних лишь человеческих сил недостаточно, чтобы искупить дурные поступки и обуздать наклонности, проистекающие из первоначального зла.
Тогда как, опираясь только на разум, можно утверждать, что зло существует и внутренне присуще человеческой природе, не накладывая при этом ограничений на свободу воли человека и возможность вменить что-либо ему в вину? Нам придется трактовать зло как нечто укорененное в человеческом естестве, но при этом не подразумевающее необходимости предопределения и абсолютной власти Божьей милости.
В то время как во второй Критике зло еще объяснялось «просто» через свободу воли, связанную путами чувственно воспринимаемого, подверженную порче и иррациональную, в работе «Религия в пределах только разума» область трансцендентальной перспективы расширяется. Причину радикального зла нельзя усматривать, как говорится в знаменитом кантовском пассаже, «в чувственности человека и возникающих отсюда естественных влечениях. Дело не только в том, что последние не имеют прямого отношения к злу <…> и потому мы не должны отвечать за их существование (да и не можем отвечать, ибо они, как прирожденные, не имеют в нас своего источника), а в том, что мы должны отвечать за наклонность к злу, которая, когда она касается моральности субъекта, стало быть, обретается в нем как свободно действующем существе, обязательно может быть вменена ему в вину»[20]. Итак, допущение существования радикального зла, внутренне присущего человеческому роду, необходимо примирить со свободой воли, при помощи которой оно может быть если не «истреблено человеческими силами», то по крайней мере, побеждено. Ведь зло — это человеческое действие, действие, совершаемое свободно действующим субъектом, который посредством этой свободы, а не только посредством веры может отойти от него и подняться к благу[21]. Как добрые, так и злые поступки происходят от разума, а не от ограничений нашей чувственной природы.
Это означает, что зло не есть нечто иное по отношению к разуму, не его отрицание, а то, что — внутри разума — расстраивает способность правильного морального суждения. Суждение принимает в свои максимы моральный закон «рядом с законом себялюбия», но при этом совершает «переворачивание мотивов»[22]. Мотив себялюбия и влечений, проистекающих из этого чувственного мотива, принимается как «условие соблюдения морального закона». Это означает, что под формой закона скрывается субъектный принцип; что моральный закон, высшее условие, сила правильного действия ему подчиняется. «Только» разум не замечает своей собственной ошибки — подчинения морального закона чувственному мотиву. Таким образом все «извращенные» побуждения, которые может преследовать воля, попадают в категорию «себялюбия», которое, «если оно признается принципом всех наших максим, есть как раз источник всего зла». Зло, в сущности, есть не что иное, как избыток самоутверждения, неумеренная страсть к своему «я». Кант, по мнению некоторых своих толкователей[23], переводит на язык практического разума две фундаментальные антропологические категории — влечение (Hang) ко злу и предрасположенность (Anlage) к добру, что позволяет прояснить условия возможности свободного выбора между мотивами, происходящими от этих двух склонностей человеческой природы.
Не углубляясь в герменевтику текста, я только еще раз подчеркну, насколько важно для целей Канта утвердить, порой даже ценой концептуальной неясности и мыслительных ухищрений, возможность понимания зла как акта свободы, как действия, отражающего «первоначальное проявление произволения». В общем, зло — это не субстанция, но и не небытие. Это действие. И это действие, о котором должна быть возможность сказать, что человек «не должен был совершить его, каковы бы ни были условия данного времени и личные отношения, ибо нет таких причин в мире, которые могли бы заставить его перестать быть существом, действующим свободно»[24].
Итак, с одной стороны, Кант признает врожденную склонность всего человеческого рода к злу — склонность, которая не нуждается в формальном доказательстве «ввиду множества вопиющих случаев, которые опыт показывает нам в действиях людей»[25]. С другой стороны, чтобы не изменять фундаментальному принципу своей практической философии, он вынужден признать, что подобная склонность не может происходить просто из слабости человеческойприроды, ограниченной чувственным опытом. Это склонность, укорененная в самом существовании человека, являющаяся частью его природы. Однако она невыводима априори.
Это тупик, который не только не позволяет немецкому философу раскрыть нам последнюю причину, «корень зла», поскольку, по его собственному допущению, его происхождение остается «непостижимым» (unherforschbar). Он еще и заставляет его отрицать существование человеческих существ, которые намеренно нарушали бы моральный закон. В кантианских терминах утверждается невозможность злых поступков, то есть действий, проистекающих из воли деятелей, принимающих в свои максимы в качестве первого мотива нарушение морального закона. «Человек (даже самый худший), каковы бы ни были его максимы, не отрекается от морального закона, так сказать, как мятежник (с отказом от повиновения)»[26]. Тем самым Кант проводит различие между злостностью и злонравием, Bösheit и Bösartigkeit[27], то есть дает определение радикальной злостности, но лишь для того, чтобы тут же исключить саму ее возможность. Своей философией он словно совершает высший акт отречения от того, существование чего сумел уловить своей интуицией. Человек может иметь «злое сердце», может извратить порядок мотивов своего произволения, но не может желать зла как такового; не может желать зла, зная, что это зло; не может бунтовать из чистой любви к бунту: «Таким образом, злонравие человеческой природы следует называть не столько злостностью в буквальном смысле слова, т. е. убеждением (субъективным принципом максим) принимать в качестве мотива в свою максиму зло как злое»[28]. Если бы это было возможно, утверждает он, мы имели бы дело с принципом, внешним по отношению к свободе, то есть с силой, которая «овладевает» человеком и управляет им посредством дьявольской искусительной мощи, делая его недоступным для принципа расположенности к добру. Для Канта разум, который принимает в качестве мотива преступление Закона как самоцель, является дьявольским. Человеческий же разум, заключает он, не может не прийти к выводу о необходимости морального закона и точно так же не может стремиться к злу ради самого зла. Превращение зла в цель действия было бы для него немыслимым противоречием, по сравнению с которым удобнее представить себе человеческий разум, подверженный обману, слабый, принимающий зло за добро и потому позволяющий злу рядиться в одежды добра. Если зло, к которому стремятся ради самого зла, противоречит самой идее человеческого, значит действие, ставящее своей целью зло как таковое, непредставимо.
В сущности, Кант, разглядев демоническую изнанку свободы, тут же отстраняется от нее, чтобы не изменять главному принципу своей философской мысли — не переступать границы знания и сохранять различие между «думать» и «знать». И все же трудно не заметить напряжение, наполняющее текст 1793 года: «скандальные» утверждения, за которыми сразу же следует опровержение, словно автор слишком близко подходит к раскаленному ядру, присутствие которого чувствует, но не желает видеть. Он словно борется с самим собой и со своей интуицией. Вероятно, это и есть предел, который не решается переступить кёнигсбергский философ, — предел, на который будут энергично указывать те, кто, идя по его следам, то есть сопрягая проблему зла с проблемой свободы, попытается разрешить великие апории радикального зла, используя возможности, угаданные, но отвергнутые им.
Возможно, именно этот предел — предел непостижимого истока радикального зла — и есть то, что преодолевает, по ее собственному утверждению, последующая философия. По мнению многих, задача определения подлинного происхождения «радикального зла» была успешно выполнена Шеллингом. Это было сделано в тексте, который знаменует собой переход от философии тождества к так называемой философии свободы, которую Шеллинг развивает в период с 1806 по 1820 год. Речь идет о знаменитой работе «О сущности человеческой свободы» 1809 года[29], в которой предлагается новое определение свободы как «способности к добру и злу», где драматизм этого «реального и живого понятия» вытесняет предыдущее «общее» и «формальное» определение и обре-тает силу, которая будет в полной мере осмыслена только в ХХ веке[30]. Шеллинг интерпретирует свободу в рамках метафизической и космической системы, и все же его называют автором, который уничтожает ряд традиционных философских запретов вокруг этой проблемы и дает философии возможность осмыслять одновременно зло и свободу ничуть не менее глубоко, чем впоследствии Ницше и Хайдеггер. Есть немало современных философов, для которых[31] именно он является тем, кто сумел проникнуть в глубину человеческого опыта свободы благодаря открытию взаимодействия между Grund и Abgrund, основой и бездной.
Сейчас мы, конечно, не будем углубляться в философию Шеллинга, в ее внутренние повороты и спорное наследие. Я хочу лишь остановиться на некоторых логических ходах работы 1809 года, ведущих к пониманию зла как онтологического разрушения начал — ту же самую идею мы обнаруживаем в центре «парадигмы Достоевского», и на протяжении значительной части ХХ века она останется общей несущей схемой (каждый раз наполняемой новым содержанием), в рамках которой будет осмысляться эта проблема. Шеллинг вместе с автором «Религии в пределах только разума» отвергает как идею privatio boni, так и идею male metaphysicum, однако не может, подобно Канту, свести радикальное зло к переворачиванию мотивов действия. Его критика обращена против любых философских и теологических течений — от платонического «отрицания» до пантеизма Спинозы[32], — ведущих к ослаблению онтологического статуса зла. Нет сомнений, что в философии Шеллинга категорично утверждается «Realität des Bösen»*. Не ограничиваясь одной лишь моральной перспективой, оно возвышается до активной силы в прямом смысле слова — силы, которая, не приводя к гностическому дуализму, все же приобретает статус свободной реальности, способной противопоставить себя добру. Да, зло есть переворачивание правильного отношения между универсальным и частным, но лишь в смысле онтологического переворачивания двух основополагающих начал реальности. Итак, благодаря в том числе и ретроспективному ракурсу герменевтики Хайдеггера[33], «Философские исследования о сущности человеческой свободы» могут быть прочитаны как работа, в которой сделанная Кантом попытка помыслить радикальное зло получает наивысшее философское воплощение; работа, в которой корень зла оказывается не только мыслимым, но и поддающимся описанию, и становится условием свободы как таковой.
Учитывая, что у Шеллинга как философа-идеалиста вопрос unde malum?* отсылает к действительной воле к совершению зла, и эта воля связана со свободой, которая, в свою очередь, обретает свои основания в свободе Абсолюта, мы неизбежно обнаруживаем ее истоки в Боге. Проблему связи Бога, зла и свободы — проблему, в которой основания зла, независимого от Бога, оказываются лежащими в самом Боге, Шеллинг решает, предлагая иной способ понимания Бога. Бога следует понимать не как абстрактную идею, а как «живую реальность»: «Бог есть нечто более реальное, нежели простой моральный миропорядок, и несет в себе совсем иные и более живые движущие силы, чем те, которые приписывают ему абстрактные идеалисты с их скудоумной утонченностью»[34]. Это становящаяся реальность, находящаяся в непрерывном действии, в которой работают разнонаправленные и конфликтующие между собой силы. Если абстрактные философские системы не позволяют помыслить вместе Бога и свободу, то Шеллинг предлагает свой способ понимания Единства Бытия в Боге, который не только не исключает свободу, но, напротив, делает ее необходимой. Шеллингианская «натурфилософия» позволяет провести различие между бытием как основой (Grund) и бытием как существованием (Existenz). Иными словами, Бог содержит в себе самом основу своего существования[35]. Основа — это не причина, внешняя по отношению к Богу, а природа, из которой Бог порождает сам себя и становится. Отсюда необходимость помыслить праосновное или скорее безосновное, Ungrund, предшествующее всякому существованию, всякой дуальности, то, что он называет неразличенностью (Indifferenz). Из неразличенности немедленно возникает двоичность, которая еще не есть противоположность.
Перед нами становление, вечность которого позволяет помыслить взаимоотношение основы и существования как круговорот. Это изначальная природа — природа одновременно основы и существования, в которой Божественная сущность высвобождает свою «искру жизни». Немецкая мистическая традиция, от Мейстера Экхарта до Бёме, несомненно, сильно повлияла на текст Шеллинга; это влияние заметно в понимании творения как вечного «внутреннего превращения», как «преображения первоначально темного начала в свет»[36]. Иными словами, мы имеем дело с естественным процессом эволюции в природе — процессом, развитие которого описано как непрерывное разделение неразличенности. То есть бытие разворачивается в отдельных существах благодаря постепенному поступательному разделению, постоянному возникновению новых форм, на фоне которого, однако, сохраняется напряжение противостояния[37]. Основе как таковой с ее желанием замкнуться в себе самой изначально присуще стремление сопротивляться центробежному движению существования. Шеллинг разрабатывает идею структурной двойственности[38] (порядок и беспорядок, свет и тьма, частное и универсальное) как начала всех существ, включая высшее существо. Эта двойственность и интересует меня в первую очередь. Каждое существо, рожденное на свет, продолжает Шеллинг, сохраняет в себе след первоначальной двойственности — напряжение между двумя неизбежно противостоящими друг другу направлениями движения. С одной стороны, центробежная сила, направленная к обособлению, к самости, которая претворяется в желание самого себя, в неистовство частной воли; с другой стороны, центростремительная сила, воплощенная в желании целостности, в воле, направленной на универсальное. Только в человеке, который, по знаменитому определению, являет собой «бездну и свет», сущее достигает самоосознания. Только в человеческой жизни Бог раскрывается как существующий actu, в действии. Иными словами, две изначальные тенденции Основы и Существования, нераздельные в Боге, разделяются, достигая самоосознания в человеческом существе.
В выдающемся произведении Шеллинга за насыщенными и не всегда ясными рассуждениями отчетливо заметна борьба, которую ведет философ, пытаясь избежать как абсолютного дуализма — разделения принципов добра и зла, так и монизма, затушевывающего реальность зла. В Боге основа его самого — темное начало, — соединяясь с его существованием — светлым началом, — преобразуется в его существование actu, в действии. Только когда Бог открывает себя, он в полной мере становится реальностью. Следовательно, Бог нуждается в связи со своими творениями, и только в человеческих существах свобода становится силой добра и зла. Сама возможность разделения начал в конечном счете являет собой возможность добра и зла. Ведь в человеке дуальность-единство, существующее в Боге, раскалывается: темное начало, беспорядок, может взять верх над светлым началом, порядком. «Человек вознесен на такую вершину, на которой он в равной степени содержит в себе источник своего движения в сторону добра и в сторону зла; связь начал в нем не необходима, а свободна. Он находится на перепутье: что бы он ни выбрал, решение будет его деянием»[39]. В наивысшей форме сознания — человеческом сознании — негативная сторона силы, хаотическое, беспорядочное может стать свободным действием. Это и есть зло.
Это значит — и этот аспект важен для меня, — что человеческая свобода такова, поскольку в ней предусмотрена возможность выбора в пользу Ничто, уничтожения, хаоса. Это онтологический след лишенного основы, тьмы, которая в созданиях совпадает с волей к себе самим, с желанием оставаться замкнутыми в самих себе, не открываться универсальному. Это упорное стремление противопоставить себя бытию и вознести себя до тотальности жизни, которое может закончиться только смертью. Если Божественная воля есть воля к универсализации и тотальности, воля человека, желающего зла, ориентирована на отдельность. Одним словом, это отказ открыться Другому, отличному от себя, отказ от любви и, как следствие, анархический выбор в пользу безраздельного господства тварного. Отсюда и неизбежный выбор со стороны того существования, которое, «желая в своем высокомерии стать всем, впадает в небытие»: «Воля, которая выступает из своей сверхприродности, чтобы, будучи всеобщей волей, сделать себя также частной и тварной, стремится перевернуть отношение начал, возвысить основу над причиной, использовать дух, который она получила лишь для центра, вне его и против твари, из чего происходит разрушение в самой воле и вне ее»[40]. Человек, причастный бытию, может сделать выбор в пользу сохранения глубокой связи с ним, или же может увлечься утверждением себя самого и в результате расторгнуть эту связь, разрушить ее. Таким образом, то, что сопротивляется этой связи, есть не просто некое лишение, удаление, ослабляющее дух, а разделение в полном смысле слова, выбор в пользу беспорядка. Итак, зло основано «на положительном обращении <...> начал (Umkehrung der Principien)»[41]. Вот корень зла, по Шеллингу, лежащий в человеке, значительно более глубокий, чем кантианская «любовь к себе». Это сердце шеллингианской концепции, к которой философ-идеалист пришел, радикализировав кантианское учение. В лекциях о Шеллинге Хайдеггер — к этому мы еще вернемся — непосредственно свяжет это понимание зла с моментом, в который человек, возникающий как самоосознающее существо, ставит самого себя в качестве основы, как субъект, низводящий все остальные сущности до инструментов собственного самоутверждения, до простых объектов, которые можно использовать и присваивать[42]. Действительно, зло существует именно потому, что человек есть существо духовное и самосознающее. Конфликт может присутствовать только в человеческой природе: в животных его еще нет, в Боге его уже нет.
Итак, противопоставление — это возможность, которая становится реальной, и она становится таковой, когда человеческое существо извращает порядок онтологических начал, порядок основы и существования, способом, который не пожелал рассматривать Кант. Извращенная воля человека, злостность, далеко выходит за пределы ошибки и порчи, свойственной конечной, тленной природе человека. Воля ко злу как таковому существует, и именно это движение претендует на то, чтобы восстановить в субъекте единство конечного и бесконечного, единство, которое может существовать только в Боге[43]. Превознесение человеческой воли, бунт против Божественной связи основы и существования порождает у человека иллюзию Божественного всемогущества. Отсюда и соперничество человека с Богом. Говоря словами Шеллинга, человек, совершающий зло, есть «перевернутый Бог». Но человеческому существу, в отличие от Бога, «никогда не удается овладеть этим условием» — условием самого себя. Значит, условием зла является намерение человека достичь подобной власти. Зло, как мы схематически можем обобщить, коренится в человеческом желании быть Богом.
Я серьезно упрощаю рассуждения «Философских исследований о сущности человеческой свободы». Разумеется, я не углублялась в хитросплетения текста, обходила сложности, противоречия и двусмысленности, содержащиеся в этом грандиозном произведении. Но, пожалуй, можно утверждать, что и Шеллинг, желавший пойти дальше Канта, опровергнуть Фихте, избежать метафизического дуализма, отойти от гегелевской логики зла, находящего себе оправдание под припоминающим взглядом Духа, в итоге впадает в ту же апорию, с которой почти всегда сталкиваются те, кто пытается совместить реальность зла с Единством и Всемогуществом Бога. Заявлять, как делает в конце Шеллинг, что первопричиной всего никогда не может быть зло как таковое, апеллировать к силе любви, к силе того тождества в Боге, которое предшествует злу, допускать, что зло является самостоятельной силой, но при этом не имеет сущности, что оно является реальностью, но только в качестве противоположности, а не само по себе, означает — как в некоторых отношениях поступает Кант — вдаваться в рассуждения, смягчающие строгость собственных утверждений. Представляется, что в своих выводах философ-идеалист затушевывает радикальность собственных центральных тезисов. В сущности, даже Шеллинг не объясняет по-настоящему, почему некоторые человеческие существа совершают зло по собственной воле, почему они выбирают зло ради самого зла, выбирают зло вместо добра.
Несмотря на эту сложную игру теоретической смелости и словесной сдержанности, шеллингианская интерпретация связи зла и свободы накладывает заметный отпечаток на последующую философию, благодаря посредничеству Бердяева и Хайдеггера, но в первую очередь, благодаря выразительной мощи Федора Достоевского и его бесов, в которых шеллингианские силы беспорядка и Ничто, условия существования зла, обретают жизнь и динамику.
3. «Бесы», или О бреде свободы
1873 — год первой книжной публикации «Бесов», произведения, которое представляет трагедию абсолютного зла как трагедию свободы. Для многих это наиболее совершенное произведение писателя, диалоги в котором находят себе единственного достойного предшественника в текстах Платона[44].
Достоевский и его бесы жили в период, когда — ближе к концу XIX века — термин «нигилизм», слово, нарушающее предполагаемую полноту философских систем[45], властно вошел в социально-политическую сферу. Как известно, в то время нигилизм становится синонимом анархистского бунта, а нигилист — это, прежде всего, тот, кто, следуя принципу «дети против отцов»[46], ставит под вопрос авторитет традиции во всех сферах, от философии до политического устройства, от религии до морали, от искусства до семьи. Переоценка ценностей и сведение их к тому, чем они, по мнению нигилистов, на самом деле являются, то есть к Ничто, в России приобретает черты не только бунтарства, но и воинствующего догматизма[47].
Начатый в декабре 1869 года под гнетом нищеты и долгов роман, несомненно, отражал тревогу автора по поводу социально-политических процессов. Известно, что писатель был глубоко впечатлен убийством студента Иванова[48] и поэтому живо заинтересовался анархистско-нигилистскими идеями Нечаева, систематически изложенными в «Катехизисе революционера» — тексте, за которым, как предполагал еще Маркс, на самом деле мог стоять Бакунин[49]. Идеи памфлета были разработаны еще Обществом иллюминатов, члены которого — так же, как потом нигилисты — намеревались занять все властные позиции и в государстве, и в обществе, чтобы затем успешно реализовать новый идеал равенства. В руках «нигилистов» эта программа радикализировалась и упростилась, в итоге сведясь к плану всеобщего разрушения. Настоящий революционер, согласно нечаевскому катехизису, не должен иметь ни частных интересов, ни привязанностей. Он должен отказаться даже от своего имени. Он должен разорвать связи с обществом, с его законами и моралью. Единственная цель, с которой он живет в обществе, — как можно успешнее разрушить его. Ведь настоящий революционер знает только одно искусство — убивать. Для этого ему нужно изучать физику и химию. В результате своеобразной переоценки всех ценностей в сочетании с ненавистью к современному обществу и презрением к чувствам, таким как дружба, благодарность и честь, нигилист становится тем, кто переопределяет добро и зло в свете новой революционной цели: добро — это все, что служит успеху дела революции, зло — все, что ему препятствует.
Это влияет на воображение Достоевского. Не приходится сомневаться, что именно планы разрушения российского общества, которые питали фанатизм новых поколений, служат фоном, на котором разворачивается действие «Бесов». В письме к Майкову от октября 1870 года, в котором объясняется смысл названия романа и эпиграфа, взятого из Евангелия от Луки[50], Достоевский ясно демонстрирует намерение развивать сюжет романа в духе нарастающего напряжения, итогом которого станет финальный взрыв. Так, от реальных и живых фигур русской истории, принадлежащих к кругу террористов-нигилистов, получают свои отличительные черты центральные персонажи романа — в частности, Петр Верховенский, Николай Ставрогин и Кириллов, которые, можно сказать, воплощают три разных способа политического злоупотребления своей властью. В восьмой главе второй части диалог между Петром Верховенским, который, как известно, олицетворяет самого Нечаева, и Николаем Ставрогиным — чудовищным тираном чужих душ — кажется доведенным до крайности пародийным изложением ключевых пунктов «Катехизиса» — изложением, в котором революционные планы нигилистов преображаются в шигалевщину. «Мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ», — возбужденно обещает Верховенский, пытаясь привлечь неприступного Ставрогина к идеям учения Шигалева — учения, проповедующего всеобщее равенство, которое будет достигнуто посредством шпионства всех за всеми: «У него, — продолжает Петр почти в бреду, — каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждо-му. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное — равенство <…>. Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина!» Цель деспотизма, объясняет Верховенский, — «горы сравнять»: титаническая попытка создать общество равных. Для этой цели не нужно образование — это жажда аристократическая, — нужна, в лучшем случае, наука. А в первую очередь нужно послушание.
В этих строках — зловещем предвосхищении рассуждений, которые будут развиты в легенде о Великом Инквизиторе, — мы видим антиэгалитаристскую и антисоциалистическую полемику, которая по остроте может сравниться только с рассуждениями Ницше. Если собственность и желание индивидуализации идут рука об руку, словно заявляет Верховенский, «мы уморим желание»: «Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе». Царство равенства и необходимости осуществимо только через террор. Вот почему следует допускать определенную дозу повседневного террора в форме доносительства, возможность которого обеспечена общей развращенностью, так что каждого есть чем шантажировать и есть в чем обвинить. Чтобы подавить желание и добиться послушания — вот особая педагогика Верховенского, — необходимо потушить любой талант еще в младенчестве. Однако, уточняет он, всего этого еще недостаточно. Поэтому предусматривается необходимость мощных социальных судорог, о которых позаботятся правители. Тогда «все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина». На тех же страницах появляется и другая цель горячей полемики Достоевского: Католическая церковь.
«Римская идея», на которой основывается власть папы, и социалистическое учение становятся для русского писателя родственными идеалами, если используются жадными до власти существами, чтобы строить и укреплять здание своего политического господства. Власть, о которой говорит Достоевский, является тем более абсолютной и тиранической, чем чаще она на словах выступает заступницей народа в его страданиях и нуждах. «Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина», — все в большем упоении кричит Петр Верховенский, одержимый желанием получить одобрение Ставрогина, перескакивая от одной идеи к другой в надежде удивить его и даже опровергая собственное нигилистское кредо. Он готов допустить, что, в отличие от прочих нигилистов, отвергающих идолов, он сделал из Ставрогина самого настоящего идола, высшего идола, которого можно поставить во главе восстания: «Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! <...> Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк». Столкнувшись с замешательством собеседника, Верховенский не отступает. Он открывает ему план, которому может послужить как ирреальный и в то же время могущественный призрак Ставрогин с его ледяным обаянием: «...мы сначала пустим смуту <...> мы проникнем в самый народ. <...> Наши не те только, которые режут и жгут <...> Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв <...> уже наш. <...> Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш». Таким образом, «наши» — все те, кто, пусть и не разделяя открыто анархистско-нигилистско-террористического учения, уже носит внутри его семя: разрушение всех принципов. В этом смысле Петр Верховенский ясно говорит о всеобщем революционном опьянении, которое подрывает корни почти всего русского народа. Он видит повсюду стремление к самостоятельности, независимости, отказу от авторитетов. Еще одно маленькое усилие, направленное на будущие поколения, и все они «попадут в наши руки». «Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо!»
Еще в предыдущем разговоре он открыл Ставрогину тайную суть социализма: идеальная личина, чтобы прикрыть и замаскировать чистое желание власти. Безграничная воля к власти, легко реализуемая, если предложить множеству отчаянных доступ к знакам и средствам власти. «Я вас посмешу, — сказал тогда Верховенский, вновь всеми силами пытаясь вызвать приязнь и восхищение Ставрогина, — первое, что ужасно действует, — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось».
На первом уровне чтения вполне справедливо не только усмотреть в романе полемику против тогдашних нигилистов и террористов, но и обнаружить в нем признаки характерного для Достоевского консерватизма. Этот интерпретативный ракурс подчеркивают те, кто, соединяя разные элементы мысли русского писателя в связную систему, выводит из нее своего рода политический канон, характеризующийся резким антиреволюционным консерватизмом. Этот интерпретативный подход, который развивают, в частности, авторы концепции «консервативной революции»[51], находит не только множество сторонников, но и ряд убежденных противников, начиная с Бахтина[52] и Камю[53]. Именно Камю утверждает, что, вопреки мнению Фрейда[54], Достоевский не порывает по-настоящему с социализмом. Предположение, что критика русского писателя направлена не на социализм как таковой, а только лишь на его извращенное применение со стороны тех, кто стремится к власти, кажется, подтверждается признаниями того же Петра Верховенского в ответ на вопрос Ставрогина «вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический... честолюбец?» «Я мошенник, а не социалист», — отвечает он ему. «Но надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим».
И все же трудно отрицать, что в романе присутствует резкая полемика с политическими тенденциями того времени, с теми семенами декадентства, которые, по мнению Достоевского, достались русскому народу от либеральной и атеистической развращенности Запада. Вспомним, например, о том своего рода параллельном тексте к «Отцам и детям», который представляет собой первая часть произведения, где в центре внимания находится этическая и социальная роль поколения либералов а-ля Степан Верховенский, отец зловещего Петра. В лице Верховенского-отца угадываются черты русских либералов — Белинского, Михайловского, Грановского. Не приходится сомневаться, что для Достоевского либерализм был подготовительной фазой нигилизма; что поколение отцов ответственно за разрушительные устремления детей, потому что отказалось от собственного авторитета. В «Записных тетрадях к „Бесам“»[55] русский писатель подчеркивал тесную связь между либерализмом и антинационализмом, разрушающим любовь к родине: то есть связь между поколением отцов — носителей отвлеченных, лишенных жизни либеральных идей — и поколением детей, в котором эти идеи становятся стимулом для отрицания прошлого и разрушения настоящего.
Будучи сыном отца, неспособного принять на себя бремя трагической реальности, Петр высмеивает Степана. Родитель видится ему патетическим интеллектуалом, типичным для 40-х годов. Атеист, западник, вялый сторонник идеи свободной совести как «всечеловеческого, всегдашнего, верховного права» — всё в Степане Трофимовиче Верховенском кажется сыну лживым. Он смешон в своей чувствительности и сентиментальности, поверхностен и инфантилен в своем тщеславном эгоизме. Он постоянно лжет, как сам он признается в конце Варваре Петровне*, матери Ставрогина и своей благодетельнице: «Друг мой, я всю жизнь мою лгал. Даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины, а только для себя». Он почти физически не способен отличать правду от лжи, а за его стремлениями к благородству духа кроется духовная нищета. Так, мы замечаем, что на самом деле он использует свое положение политического ссыльного как предлог для абсолютно паразитической жизни. Он не только не живет своим трудом и проматывает доходы с имения, но и этих средств ему не хватает. Поэтому он находится на содержании у Варвары Петровны. Что хуже всего, он живет чужими идеями. Не зря Бахтин назовет его «эпигоном <...> афористического мышления»[56] — тем, кто изрекает тысячи истин, не имея ни одной собственной, и главное, ни одной глубоко пережитой и личной.
Таким образом, Достоевский устанавливает идеологическую преемственность между либеральным идеализмом в духе Степана Верховенского и кровавым анархизмом нигилистов. Однако здесь я не ставлю своей целью проанализировать, чтó Достоевский, в созвучии с европейской антиреволюционной мыслью, думает о сущности русского либерализма, и установить, действительно ли в его понимании за идеями гуманизма и прогресса всегда кроется светский атеизм. Я хочу лишь показать, как бесы рождаются из политического контекста России XIX века и становятся трансисторическими героями образцовой сцены зла, на которую еще долгое время будут прямо или неявно ссылаться. Может быть, ключевым моментом является даже не пророческий характер произведения, на котором так настаивал Бердяев. Он, конечно, прав: Кириллова, Ставрогина, Шатова и всех остальных еще не было в русской действительности 1860–1880-х годов. Вероятно, они предвосхитили будущих героев революционных событий ХХ века[57]. Но величие романа, на мой взгляд, заключается не только и не столько в историческом предостережении, сколько в том, как русский писатель объясняет, каким образом намеренное, сознательное зло, творимое немногими, способно кирпичик за кирпичиком построить и закрепить систему зла, мир, в котором страдание захлестывает и уничтожает всех и вся. Здесь не только ясно демонстрируется природа «подлинного» радикального зла в его связи с бездной свободы и воли к Ничто, но и прогнозируется его коллективное, политическое применение. В этом и заключается разница между каноном политического консерватизма в духе Достоевского и «парадигмой Достоевского», о которой говорю я, — концептуальным комплексом, который на долгое время задает ориентиры и структуру осмысления зла в его связи с властью.
Шедевр Достоевского, если прочитать его в такой перспективе, приводит нас не только к вопросу взаимоотношений либерализма и нигилизма. В первую очередь он заставляет задуматься, почему именно эти две характеристики, прочно укоренившиеся в Степане Верховенском, — ложь и паразитизм, то есть отсутствие ответственности и решительности — становятся «точкой входа», открывающей дорогу настоящим бесам. Паразитизм и ложь, всегда являвшиеся характерными признаками зла, в Степане Трофимовиче еще не претворяются в настоящие дурные поступки, однако уже предстают как средства развращения, неуклонного распада и краха. Верховенский-отец —та точка, из которой разрастается паутина зла и власти. Не случайно Достоевский в определенный момент меняет план романа. В августе 1870 года он решает заменить Степана на Ставрогина в роли главного героя, отрицательного героя романа[58]. Мне хочется думать, что в этот момент соображения чисто политической полемики уступают место рассуждениям иной природы, которые выходят далеко за пределы одной лишь суровой и проницательной критики настоящего момента и становятся сложным, развернутым ответом на знаменитый кантианский вопрос: что есть радикальное зло?
В творчестве русского писателя радикальное зло являет собой как болезнь разума, так и патологию чувства. В обоих случаях оно связано с переходом некой границы. Феноменология радикального зла у Достоевского, несомненно, представляет собой хитрое переплетение психологии и онтологии. Однако в первую очередь это нечто не сводимое к одной лишь расположенности субъекта или к простому результату единственного дурного поступка или намерения. Только во взаимодействии друг с другом и со всеми остальными главные герои романа составляют многогранную призму радикального зла. Так же как у Платона беспорядок в душе (псюхе) соответствует политическому и социальному хаосу, в «Бесах» энергия и сила разрушения являются масштабной проекцией безмерной ненависти к бытию, которую каждый из них таит в своей душе. Каждый бес есть «расшатавшаяся», «вышедшая из пазов»[59] вселенная. Каждый дает волю своей отрицательной стороне: кто — низменным инстинктам, кто — хитрости, кто — высокомерию, кто — зависти. Но общим для всех является опыт переступания черты, уничтожения границ и порядка вещей. Главным героем здесь становится абсолютный произвол. Ведь каждый из персонажей, ведомых разными силами, впадает в бред всемогущества — всемогущества, которое из Божественного атрибута низводится до человеческой черты. Словно вновь актуализируется онтологическая проблема Шеллинга: конечное, что пытается вознестись до бесконечного, для Достоевского также является тем узлом, в котором заключена сила зла. В конкретном существовании этих агентов зла обнаруживается одинаковая, общая для всех динамика: желание преодолеть пределы собственной конечности и стать не просто подобными, а равными Богу[60].
Действительно, главную скрипку в сюжете играет Ставрогин, претендующий на роль человекобога. С того момента, как он приезжает в город, общественная и частная жизнь его обитателей попадает в разрушительный вихрь. Героев словно разбрасывает по сторонам, и эти стороны не могут найти точку соприкосновения. Петр Верховенский является пародийным олицетворением разрушительного активизма; Кириллов выступает как сверхчеловек, выбирающий Ничто как часть Всего, которое он, как ему кажется, воплощает, а Шатов доводит до крайности логику фанатизма, который приобретает облик религиозного национализма. Однако эти лики зла — титанизм, экстремизм, фанатизм — вдохновлены одним и тем же: глубоким нигилизмом Ставрогина. Они заражены им, их деятельность поддерживается той силой Ничто, которая, по Бердяеву[61], являет собой истинное сердце Николая Ставрогина. Ведь если каждый — бес, то каждый бес есть лишь обезумевший осколок, несущийся в вихре низменных, гнусных и жестоких страстей. Садизм сливается с иронией, тщеславие соединяется с пошлостью, и все вместе открывает путь всеобщему разрушению. Значит, сила зла становится радикальной только в рамках некоего отношения.
Итак, сюжет «Бесов» — это паутина, в центре которой находится Ставрогин, который, как сказано в романе, напоминает и Гамлета, и принца Гарри, и Фауста: демонические фигуры, чьи черты он доводит до предела, предлагая нам своего рода «анатомию» злодея. Именно Ставрогин продолжает и приводит к завершению «химическое разложение» темной части человеческой души, начатое еще «подпольным» человеком — человеком, который в своем «усиленном сознании» признается самому себе, что творит зло со сладострастием, ради наслаждения, не из эгоизма или невежества, не из мракобесия и не ради выгоды[62]. Анализ этого зла, совершаемого без какой-либо цели, невозможно воспринимать иначе как объяснение кантовского отрицания.
Ставрогин в «Бесах» действует разными способами, но тоже без определенной цели. Он творит зло, порождает страдание и боль в силу своего цинизма, ироничности[63], жестокости, невероятной чувственности и холодного ума. Но никогда из личного интереса. Он словно представляет собой Божественную субстанцию, обладающую бесконечным множеством свойств и вариантов поведения, которые, впрочем, ни к чему не приводят. Утонченный и изящный аристократ, когда ему хочется; при случае — исследователь дна жизни и вдохновитель низменных страстей. С другой стороны, он вроде бы готов благородно пожертвовать собой — это сбивает нас с толку и заставляет воспринимать некоторые его поступки как искупление совершенного им зла. Например, он женится на несчастной, «плюгавой, скудоумной, нищей хромоножке», словно назло собственному обаянию, перед которым не может устоять ни одна женщина. На самом деле и женитьба на «бедняжке»[64] есть не что иное, как эксперимент с целью вызвать скандал, а потом проанализировать жалость, которую этот шаг вызовет у других. В то же время он ведет «ироническое существование», по Кьеркегору[65]. Петр Верховенский называет его жизнь «насмешливой», в буквальном смысле пожираемой демоном иронии. Он творит зло, сеет вокруг себя унижение и стыд, но зачастую делает это без какого-либо расчета, действуя с легкостью, типичной скорее для мальчишеской шутки. Стоит вспомнить эпизод с оскорблением Гаганова, «пожилого и даже заслуженного» члена городского общества, который, разговаривая с людьми, имел обыкновение перемежать свою речь фразой «нет-с, меня не проведут за нос!» Как-то в клубе Ставрогин поймал его на слове: ухватил его за нос и протянул за собою по зале, без причины и без неприязни, только лишь — поистине бессмертная сцена — улыбаясь злобно и весело. И это не единственный эпизод[66]. Однако Ставрогин отличается не только наглостью подобного типа — назовем ее импульсивной. Он с первых страниц демонстрирует холодность, которая нередко будет проявляться в нем в самые важные моменты. И если «злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе»*, «злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, разумная, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть».
Ставрогин, тоже страдавший от «усиленного сознания», усердно выводит свой разум за пределы добра и зла, чтобы доказать — в первую очередь, самому себе, — что добра и зла не существует. Его свобода — это свобода, лишенная основы: об этом будут говорить Евдокимов, Бердяев и Парейсон. Несмотря на это, он парадоксальным образом, словно бы знает, что, если уничтожить разницу между добром и злом, тут же распахивается бездна «бреда свободы». Он будто всегда предчувствовал, что неограниченный произвол приведет его к гибели, что ничем не ограниченная свобода низвергает в пропасть и ведет к краху. Ведь Ставрогин не сумасшедший. Его раздвоение и внутренний раскол — не плод безумия, а порождение нигилизма, отказа от бытия в пользу Ничто. «Демон иронии», заставляющий его не верить ни во что и смеяться над всем, и есть то, что препятствует разрешению его внутреннего конфликта. В любом событии он видит противоположности[67] и, вместо того чтобы сделать выбор в пользу одной или другой возможности, выбирает их обе.
Тогда, если этот разлад — конфликт добра и зла, который, согласно Достоевскому, разворачивается в сердце каждого человека, — остается таковым, если борьба между двумя началами — а она сама по себе, в свою очередь, может стать источником зла — не завершается торжеством добра, которое есть царство единого, свободная воля извращается и становится свободой осуществления зла. Вот почему разделение, распад принадлежит к сфере зла. Это признак бреда свободы, бреда, который не случайно достигает апогея в галлюцинаторном раздвоении, которое реализуется у Ставрогина в образе беса. Это видение указывает на то, что злобный Другой воспринимается как реальность до такой степени, что объективируется. Ставрогин во власти зла являет собой личность, разделенную надвое: с одной стороны — этическое «я», с другой — «я» имморальное. Он и сам замечает: «...могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие». Он как будто отказывается признавать различие между скотским поступком и актом наивысшего благородства, на которое он тоже способен. Словно отвращение, которое он питает к собственной низости, оказывает на него непреодолимо притягательное действие, и он, ничего не боясь, испытывает опасное влечение к смерти.
Всякий поступок Ставрогина порождает боль и страдание, унижение и стыд. Он — корифей того духа отрицания и разрушения, который, по убеждению Достоевского, составляет фундаментальную сущность зла. Но вплоть до последнего решения, до самого порога подлинного «радикального зла», ни один его поступок не является для русского писателя неискупимым. Ведь в определенном смысле само зло, страдание, которое оно доставляет тому, кто его совершает, может стать дорогой к искуплению. Словно мука осознания собственной обреченности сама по себе является средством спасения. Хорошо известно, какое значение для автора «Бесов» имела идея искупления через преступление как таковое.
И все же есть предел, за которым свобода Ставрогина переступает грань любого возможного спасения. Этот факт и сцена, в которой это происходит, хорошо известны. Речь идет о насилии Николая над девочкой. Об этом рассказывается в ключевой главе романа, где Ставрогин, встретившись с архиереем Тихоном, передает ему «назначенные к распространению» листки, на которых признается в своем деянии. Он рассказывает о своем преступлении. Но повествование достигает апогея извращенности, когда он углубляется в то, как маленькая Матрёша была доведена до самоубийства. Ставрогин — как он сам признает — с наслаждением следил за мучениями девочки, ничего не предпринимая. Он шпионил за ней, следил за каждым ее движением, считал секунды, отделявшие ее от рокового поступка, который привел ее к гибели, с холодностью энтомолога, наблюдающего за движениями насекомого. Или, точнее, за движениями паука, запутавшегося в паутине.
Тут его свобода, направленная на разрушение, проходит точку невозврата. Она переступает грань возможности искупления, когда злоба Ставрогина избирает своим объектом абсолютно невинную жертву. Этот эпизод романа не только один из самых художественно совершенных, но и один из самых красноречивых в философском плане. В этих отношениях насилия, где с одной стороны находится всемогущество палача, а с другой — полное бессилие жертвы, выражается то, что, как мне кажется, и является для Достоевского злом в его чистой и абсолютной форме. Это пограничная фигура в отношениях власти, крайний предел человечности человека. Для русского писателя это явление — жестокость, обращенная на невинного и беззащитного, примером которой служит страдание, причиняемое детям, — становится ответом на загадку радикального зла. И если здесь действие радикального зла разворачивается в микрокосме личных отношений двоих, скоро оно будет готово реализоваться в большем масштабе и дать своим наследникам из ХХ века герменевтический ключ к абсолютному политическому злу.
Мы знаем, что идея страдания детей буквально преследовала писателя: вскоре после признания Ставрогина Достоевский сделает ее центром диалога Ивана Карамазова с братом Алешей. В сущности, это великолепное опровержение гипотезы о всеобщей гармонии, аргумент, способный разрушить логику, которая лежит в основе всех старых и новых теодицей. Но я убеждена, что в то же время это и совершенно прозрачное объяснение связи зла и власти. Что представляет собой в глазах Достоевского мир детства? Как замечает Иван, мир детей — это отдельный мир. Дети до семи лет обладают другой природой, не такой, как все люди. Они просто являют собой мир без зла, часть человечества, еще не запятнанную виной. Но если это так, значит, насилие над их невинностью есть наивысшее злодеяние. Оно выступает как абсолютное преступление, перед которым отступает даже нигилизм и имморализм Ивана Карамазова. Если допустить, что Бог существует и что «человеческий эвклидовский» ум не может понять его, — спрашивает себя Иван, — то к чему страдания детей? Истории, которые он рассказывает Алеше о том, какие муки причиняют детям взрослые, зачастую их же собственные родители, и воплощают в его разочарованных глазах «неприемлемое»: крайнее и решительное опровержение лжи о вечной гармонии, возражение против идеи греха как необходимой ступени к спасению, уверенность в невозможности окончательного примирения человека с Богом. «Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? — почти вне себя говорит Иван. — Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю»[68].
Но если «бунт» Ивана, как справедливо замечает Камю[69], есть этический бунт в ответ на абсурд «во имя абсурда», то бунт Ставрогина — это настоящее покушение на самого себя, без какой-либо возможности спасения: отрицание ради отрицания, которое приводит не только к уничтожению другого, но и к собственному разрушению. Он действительно находится по ту сторону закона, по ту сторону добра и зла: «Обо всем можно спорить бесконечно, — заявляет он, — но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы». Его душа кажется застывшей и пустой, ее словно вовсе не трогает ни радость, ни боль, ни страх. И все же даже в этой холодной, унылой самодостаточности можно обнаружить изменение, утрату агрессивности и достижение состояния абсолютного безразличия. Словно зло достигло предела, за которым оно уже не может выражаться вовне, и вынуждено обратиться на сам источник, из которого проистекает.
Безразличие, в которое погружается Ставрогин, — этоболезнь чувства, но происходит оно от изначального преступления, которое приводит его чувства и разум к отчаянию[70]. Его свобода не видит перед собой никаких пределов, потому что она достигла дна. Это насилие над невинностью совершается — в отличие от случаев, о которых рассказывает Иван, — не из аморальности, не из садистского наслаждения преступлением, не из извращенности расколотой личности. Растление девочки — это самый настоящий эксперимент: опыт по достижению Божественного всемогущества. В этом и заключается для Достоевского метафизический исток злобы: когда свобода человека доходит до того, что бросает вызов Богу. Однако для человеческого существа — это крайне важно для понимания проблемы зла у русского писателя — подобный вызов может реализоваться только в форме разрушения. Таким образом, злоба — это не просто злоупотребление, порожденное избытком эгоистического себялюбия. Это онтологическая ненависть: ненависть по отношению к творению, к бытию, только лишь потому, что оно «есть». Она совпадает с направленностью, которую приобретает воля человека, когда пытается выйти за пределы собственной конечности и обрести такую же власть, как Божественная воля. Однако, в отличие от Бога, человеческая власть выражается не в творении, а только лишь в разрушении. Поэтому человеческая воля, отказываясь открыться бытию, реализуется как чистая воля к разрушению: желание обрести могущество, чтобы превратить бытие в Ничто. Не будучи способной творить из ничего, как Бог, она вынуждена направлять свою власть на превращение бытия в Ничто. Это свобода, которая становится абсолютной единственным способом, доступным человеческому существу: свобода выбрать Ничто вместо бытия. Как позже скажет Ницше, воля к власти, которая предпочтет скорее хотеть Ничто, чем ничего не хотеть. А если это ненависть по отношению к творению, тогда невинность жертвы становится залогом беспричинности этой ненависти. А власть, направляющая свою уничтожающую силу на невинного, — неоспоримый знак радикального зла. Зла, корень которого в самом человеческом существе, не в эгоистическом извращении разума, а скорее в бреду разума, считающего себя безграничным и направляющего волю, которая хочет быть абсолютно свободной и как таковая претендует на равенство с Божественной свободой. В момент, когда человек утрачивает связь с Богом и понимание своих границ, вырастающее из этой связи, осуществляемая им власть начинает реализовываться исключительно как сила, подавление, разрушение. Это корень зла во власти и власти как зла.
Мы еще не раз вернемся к этой теме. Что касается Ставрогина, мы можем завершить разговор о нем, вспомнив, что архиерей Тихон, растерянный и потрясенный, перед лицом молодого Николая, который в решительный момент, кажется, боится не вечного проклятия, а сочувствия, которое могло бы вызвать в других его возможное покаяние, не находит других слов, кроме таких: «Но более великого и более страшного преступления, как поступок ваш с отроковицей, разумеется, нет и не может быть».
Беспричинное, самоценное, замкнувшееся в безразличии и потому лишенное возможности покаяния, сознательно выбранное и желанное зло достигает в Ставрогине своей предельной глубины. Однако, как уже говорилось, энергия отрицания расходится из этого раскаленного ядра в разных направлениях. Разрушение бытия под маской «общего дела» по-разному продолжается в других «нигилистах». Прежде всего, как мы видели, в Петре Верховенском, по Бахтину, — идеальном воплощении демона пародии. Для него высокое приравнено к низкому, а идеи и идеалы не более чем ширмы, за которыми удобно действовать. Его цель — осмеяние всех и вся, всеобщее предельное низведение, и в его руках — говоря словами Кириллова — история превращается в «диаволов водевиль». Каждый его поступок служит высшему наслаждению — совершению зла. Он ненавидит, клевещет, развращает, убивает из любви к разрушению. Но в отличие от циничного и равнодушного высокомерия Ставрогина, в нем преобладают мелочность и убежденность, что все что угодно можно обратить в низкую комедию. Отсюда и скрытое в нем противоречие: покорный до угодливости — преклоняющийся перед «идолом» Ставрогиным — и своевольный до заносчивости — великий манипулятор и тиран чужих жизней. Это для него «нет ни лучше ни хуже». Петр бездуховен, и при этом он прагматик, человек действия. Для него цинизм и беспринципность становятся главным организационным принципом и приводным ремнем политики зла. В своем хлопотливом возбуждении он являет собой «воплощение воли к действию»[71], непрерывной лихорадочной деятельности, которая вовлекает и выбивает из колеи других героев, улавливая их в единую сеть. Точнее, если воспользоваться метафорой паука, столь близкой Достоевскому, опутывая их одной огромной паутиной. Стратегический гений революционных планов, он открывает один из секретов подчинения власти: «хороший клейстер», которым скрепляются и приводятся к покорности группы и кружки, — общее преступление. К этому выводу он приходит благодаря разговору со Ставрогиным, который предлагает ему: «...подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать».
Фальшивый дух единства, коллектив, спаянный общим «правом на бесчестье», — так Ничто может легко завоевать себе место, приняв форму политических и общественных движений. Вот почему на протяжении большой части ХХ века в этих страницах «Бесов» будут видеть провозвестие самых чудовищных революционных трагедий — порождений нигилизма, в которых связь зла и власти, достигающая апогея в полярном противопоставлении субъекта, считающего себя всемогущим, и беззащитной жертвы, претворяется во взаимоотношения вождя и масс, тем самым распространяясь на все общество. Та же поляризация субъекта и объекта, палача и жертвы переносится в коллективное измерение и позволяет осмыслить его в рамках аналогичной дуалистической структуры, в которой с одной стороны находится вождь, цинично использующий чужие слабости, а с другой — масса, слабая и лишенная какой-либо силы к сопротивлению. Впоследствии это отношение стараниями как социологии толпы, так и фрейдизма будет осмысляться как гипнотическая связь между магическим всесилием предводителя масс, которое выражается в слоганах и идеологических формулах, — и абсолютно бессильной пассивностью ведомых, одурманенных и управляемых[72], убежденных, что вождь воплощает собой ту идею, которая подчиняет их себе.
Если атавистический цинизм Петра предстает как парадигматический пример зла в его политическом изводе, «чистота» Кириллова относится к противоположной стороне как своего рода антидот к практическому нигилизму первого. Его вера в идею вечной всеобщей гармонии служит Достоевскому средством жесткой критики духа теодицеи. Однако на страницах «Бесов» критика никогда не приобретает пародийного тона, каким отличается, например, знаменитая гениальная девятая глава одиннадцатой книги «Братьев Карамазовых» под названием «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», на которой мы остановимся подробнее. Явление черта потрясает Ивана не только тем, что он узнает в нем свою галлюцинацию и к тому же проекцию дурной части своей личности: «Ты моя галлюцинация. — говорит он ему. — Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых». Его ничуть не меньше тревожит заурядность и уязвимость черта, который, со своей стороны, сам не веря в свой «благородный» статус падшего ангела, неоднократно указывает на причину разочарования молодого Карамазова: «Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть, и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу». И еще: «Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, „гремя и блистая“, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде». Черт, простуженный и страдающий ревматизмом, изображен как паразит, вынужденный вселяться в человеческие тела, чтобы обрести хоть какую-то реальность. И все это в ущерб его власти, которая подвергается суровому испытанию в диалоге с двойником. В мире, который ради Ничто отрекся от Бога, где «все позволено», зло может приобретать облик простого отрицания: оно может свести свое влияние к «мягкому» диалектическому противоречию.
Черт, в бреду являющийся Ивану, словно пародирует учение Гегеля, которое, если мне простят это варварское упрощение, начиная с «Веры и знания»[73], можно интерпретировать как грандиозную попытку лишить драматизма и обезвредить реальность зла. Упрек, который Гегель обращает к предшествующей философии, в особенности кантианской, заключается в том, что она слишком сосредоточивается на оппозиции конечного и бесконечного и на противопоставлении между бытием и Ничто, тем самым препятствуя правильному пониманию реальности зла. По его мнению, именно эта ошибка помешала Канту признать, что зло есть не что иное, как упрямый отказ видеть дальше этой антитезы. Негативное — обширная область, вбирающая и словно бы растворяющая в себе радикальное зло, — обеспечивает динамику процесса развития духа, в котором в любой момент любая «фигура» превращается в свою противоположность. В таком случае невозможно отделить добро от зла, как это делает простой рассудок: для разума они остаются нераздельно переплетенными. Когда духу удается преодолеть ложное противопоставление конечного и бесконечного, само зло пусть и не уничтожается, но, так или иначе, трансформируется. Конечно, страдание, боль, разрушение присутствуют повсюду, но примирение всегда одерживает верх над повреждением: «раны духа заживают, не оставляя рубцов». В этом смысле зло повсюду и неотделимо от добра[74].
Резкую полемику Гегеля против любой формы дуализма можно было бы воспринять как продолжение борьбы против первичной и для него абсолютно ложной оппозиции добра и зла. Это антитеза, которую, по его мнению, сначала христианство, а потом философия, осмысляющая дух как синтез конечного и бесконечного, делегитимируют как «ирреальный» способ понимания данной проблемы. Философия Гегеля, несомненно, представляет собой, прежде всего, радикальный отказ от любого типа дуализма, включая тот, который отделяет человеческое от Божественного. Неважно, из каких предпосылок он исходит — атеистических или религиозных: нас интересует то, что его грандиозное обличение, направленное против зла как «реальности в себе», может рассматриваться как бегство в самую утонченную теодицею, основанное на «хитрости разума», еще более действенной, чем у Лейбница.
Во «Введении» к «Лекциям по философии истории»[75] Гегель сам характеризует свою мысль как теодицею, оправдание Бжественного промысла, позволяющее нам понять все несчастья мира, в том числе и существование зла. Только так мыслящий дух может примириться с отрицательными аспектами существования, ведь «нигде не представляется большей надобности в таком примиряющем познании, как во всемирной истории». «Это примирение, — утверждает немецкий философ, — может быть достигнуто лишь путем познания того положительного, в котором вышеупомянутое отрицательное исчезает, становясь чем-то подчиненным».
Прежде чем ХХ век начал свою разрушительную атаку на хитрую рациональность гегелевского «негативного», прежде чем философы ХХ века поставили под сомнение диалектическое понимание истории, задавшись вопросом о страдании невинных жертв, Достоевский, в идейном плане присоединившись к Кьеркьегору, создал гениальную пародию на концепцию позитивности негативного, вложив ее в уста черта: «Каким-то там довременным назначением, — признается черт Ивану, — которого я никогда разобрать не мог, я определен „отрицать“, между тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен». И все же, продолжает он, я обязан отрицать, ведь «без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет „отделения критики“? Без критики будет одна „осанна“». И бедолага, который требует себе «уничтожения», вынужден жить, чтобы на земле были происшествия. «Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу». Итак, сведенное к простой негативности, к условию диалектического развития духа, зло как самостоятельная сила, как разрушительная мощь и влечение к Ничто достигает в теодицее, особенно в «гегелевской теодицее», радикальной нейтрализации. Оно словно становится всего лишь необходимой дозой боли и страдания, которая нужна только для того, чтобы сделать жизнь интереснее, чтобы не превращать ее «в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато».
Против понимания зла как простой функции, «икса в неопределенном уравнении», и выступает саркастический гений Достоевского. За несколько лет до того, как описать встречу Ивана с чtртом, он представляет нам образ Кириллова — с гораздо более печальной иро
