кітабын онлайн тегін оқу Море и жаворонок. Из европейских и американских поэтов XVI–XX вв


ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ
И АМЕРИКАНСКИХ
ПОЭТОВ XVI–XX ВВ.
Перевод Григория Кружкова

Издательство Ивана Лимбаха
Санкт-Петербург
2019


Григорий Кружков
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга юбилейная — она подытоживает 50 лет переводческой работы. А началось всё с того, что никому не известный аспирант-физик сведал адрес издательства «Художественная литература», приехал на Ново-Басманную улицу, поднялся на пятый этаж, в отдел зарубежной литературы, постучался в первую дверь и спросил, кому можно показать свои переводы. Их у меня было ровно два: «Ода Греческой Вазе» Джона Китса и сонет, начинающийся по-английски словами «I cry you mercy, pity, love — ay, love». Мне повезло, меня не завернули с порога, а наоборот — прочли, ободрили и вскоре предложили попробовать свои силы в переводе Эдгара По и Теофиля Готье. И даже — вот чудо! — приняли мои еще ученические опусы к печати. Там были, в частности, «Луксорский обелиск» Готье и «К Елене» Эдгара По; посмотрите, если интересно, — с этого я начинал.
Хотя, если разобраться, начало можно отнести еще дальше назад — к школьным временам. Помню, кто-то сказал мне, что в Москве на улице Качалова есть букинистический магазин, где продают книги на иностранных языках. Я поехал туда и за сущие пустяки купил восхитительный томик Генри Лонгфелло 1860 года и двухтомник Альфреда Теннисона, тоже прижизненный, с иллюстрациями, прикрытыми тонкой папиросной бумагой. Для молодых читателей уточню: в те баснословные времена граница, конечно, была на замке, так что современные английские книги не могли проникнуть в СССР. Купленные мной были обломками каких-то еще дореволюционных библиотек.
Я жил тогда в подмосковном поселке на улице 2-я Крестьянская. В детстве у меня не было ни заветного отцовского шкафа с книгами, ни вдохновенного учителя литературы, читающего наизусть Блока, вообще ничего подобного. Но тем сильнее меня тянуло в сторону стихов, а стихи на чужом языке были еще таинственней и тем самым притягательней.
У Олега Чухонцева есть такие строки:
Смотри, как сладко ягоды висят,
Но слаще среди них чужая ветка.
«Малина ваша проросла в наш сад», —
Через забор мне говорит соседка.
Чужое манит, потому что есть какой-то всеобщий закон тяготения, из которого закон Ньютона вытекает как частное следствие. И еще: без чужого не бывает нового. Вся история литературы это доказывает.
Как возникло желание переводить, это невольное шевеленье губ, все время пытающихся сказать по-русски то, что они прочитали по-английски? Я думаю, в основе было желание приблизиться, понять и присвоить. Аркадий Гаврилов, переводчик стихов Эмили Дикинсон, однажды заметил: «Стихотворение на чужом языке похоже на негатив портрета, в котором с трудом можно угадать черты личности поэта. Многое остается непонятным, пока не переведешь портрет с негатива на бумагу и не обработаешь отпечаток „химией“ своей души».
Сейчас я могу как-то это объяснить, отрефлектировать; а тогда, в юности, я действовал спроста, не задумываясь. Откуда взялась первая сноровка? Откуда пришло чувство (наиважнейшее для переводчика), что если не получается как следует, ты должен или расшибиться в лепешку — или уж оставить стихотворение в покое, не портить хорошую вещь? Видимо, какой-то переводческий ген сидел во мне с самого начала.
Но дальше судьба сделала зигзаг. В юности бывает так (и даже очень часто!), что человек увлекается одновременно или почти одновременно сразу двумя девушками. Вот так и я, не разлюбив стихов, увлекся естественными науками и почти на десять лет ушел в физику. Сказать точнее, я жил, как тот крестьянин у Маяковского: «землю попашет, попишет стихи». Но поэзия в конечном счете взяла верх. Произошел как бы переворот оверкиль — не так внезапно и не так драматически, как переворачивается айсберг — с оглушительным треском и шумом, рассыпая хрустальные обломки льда, — но все-таки это произошло.
Переводческое искусство схоже с актерским. И там и тут главный инструмент — ты сам, со своим характером, темпераментом, складом речи, и так далее. Физиономия актера неизбежно проглянет в любой его роли.
За свою переводческую жизнь я переиграл десятки ролей — от поэзии XVI века до современности. И они нисколько не мешают друг другу. Наоборот, чем ты больше вобрал, чем больше можешь уловить связей, отзвуков и параллелей у поэтов, тем больше это тебе помогает: ведь лучшее объяснение стихов — другие стихи.
Как у всякого переводчика, у меня есть любимые авторы, давно ставшие моими постоянными спутниками. Это англичане Джон Донн, Уильям Шекспир, Джон Китс; из ирландской поэзии — средневековая монастырская лирика, Уильям Батлер Йейтс, Джеймс Джойс, Шеймас Хини; из американцев — Эмили Дикинсон, Роберт Фрост и Уоллес Стивенс; из классиков нонсенса — Эдвард Лир и Льюис Кэрролл.
Но наряду с ними есть и другие — поэты, которыми я занимался, может быть, и меньше, но с не меньшим интересом и увлечением. Это, например, сэр Томас Уайет, граф Сарри, Джордж Гаскойн, сэр Филип Сидни, сэр Уолтер Рэли — романтические фигуры, настоящие люди Возрождения; иные из них сложили свои головы на поле боя, другие — на эшафоте. Это и Томас Кэмпион, самый музыкальный из елизаветинских поэтов, лютнист и врач, и Эндрю Марвелл, сатирик и возвышенный метафизик в одном лице. Далее, три поэта трагической судьбы: Кристофер Смарт, в сумасшедшем доме написавший свои самые потрясающие строки; Уильям Каупер, всю жизнь боровшийся с душевной болезнью; поэт-крестьянин Джон Клэр, закончивший дни в скорбном доме. И выглядящие по сравнению с ними совершенно благополучными Уильям Вордсворт и Альфред Теннисон, удостоенный за свои стихи титула лорда. Эмили Бронте и Элизабет Браунинг, две замечательные женщины, погубленные чахоткой, но успевшие оставить яркий след в литературе. (Почему-то этот недуг в девятнадцатом веке был особенно беспощаден к женщинам.) Далее, знаменитый художник Данте Габриэль Россетти — и никому при жизни неведомый священник-иезуит Джерард Хопкинс; автор мужественных баллад, рано завоевавший славу Редьярд Киплинг — и поэты-декаденты 1890-х годов Эрнст Даусон и Лайонел Джонсон с их неприкаянными судьбами и ранним концом. Какие поразительно разные поэтические личности в рамках одной эпохи, одной поэтической традиции.
Но, помимо этих достаточно известных имен, есть другие, пребывающие в тени; помимо хрестоматийных стихов, есть и редко вспоминаемые, и практически забытые. Некоторые из этих вещей — наиболее удачно получившиеся по-русски — я тоже решил включить в эту книгу. Ведь не зря же я отыскивал их в старинных антологиях, в библиотечных закоулках, пленялся ими и переводил, мечтая поделиться с русским читателем своей находкой. Удивительное чувство — вывести из темноты забытого автора или неизвестное стихотворение; какой-то ток проходит в это мгновение по твоей руке. Всего лишь несколько миллиампер, но ты его ощущаешь.
Вот лишь два примера: героические стихи Анны Эскью, мученицы за веру, написанные перед казнью в последние годы правления Генриха VIII, и исполненные изящного юмора стихи ее современника Джона Харингтона, посланные в письме матушке в оправдание долгого молчания. В книге они стоят рядом, и этот контраст дополняет картину времени.
Михаила Леоновича Гаспарова однажды спросили: перед тем как переводить, стараетесь ли вы больше узнать о поэте? «Не то слово, — отвечал Гаспаров, — я обязан знать о нем всё». К этому можно добавить: переводчик должен знать «всё» не только о самом поэте, но и его современниках и предшественниках. Можно ли, например, разумно судить о сонетах Шекспира (не говоря о том, чтобы их переводить), не зная Гаскойна, Сидни и Донна, не изучив в целом сонетной продукции последнего десятилетия царствования Елизаветы? Только сравнивая, мы можем сказать, где открытие поэта, где новая и яркая метафора, а где обычное для того времени поэтическое клише.
Одна из выгод переводческой профессии в том, что она заставляет тебя все время выведывать и узнавать новое. А узнав, хочется этим поделиться. Исторический фон, судьбы поэтов, обстоятельства создания стихотворений и так далее — делают наше понимание глубже и качественней, тем самым умножая удовольствие от прочитанных строк. Мне нравится вести за собой читателя в эти обширные пространства за стихами, предлагать ему не только переводы, но и свои рассказы о любимых поэтах. Многие из них собраны в книгах: «Ностальгия обелисков» (2001), «Лекарство от Фортуны» (2003), «Пироскаф» (2008), «Очерки по истории английской поэзии» в 2 томах (2015; 2016), и последняя: «Ветер с океана: Йейтс и Россия» (2019).
Моя основная область — английская поэзия (а также ирландская и американская); но были у меня вылазки и за пределы англоязычных стран, во французский и испанский огород, и не только. Всё связано со всем. Без Пьера Ронсара и других поэтов Плеяды трудно понять сонетный бум в ренессансной Англии, начавшийся с «Астрофила и Стеллы» Филипа Сидни; эта та самая малина, которая «проросла в наш сад». И конечно, без Верлена и «прóклятых поэтов» не было бы Эрнста Даусона и его друзей-декадентов.
Особое место в этой книге занимает средневековая ирландская поэзия, которую также называют монастырской лирикой, потому что авторы по большей части были монахи. Это самая ранняя рифмованная поэзия в Европе (не считая арабской андалузской) и во многих отношениях уникальная. Уже в VIII–IX веках ирландские поэты разработали весьма изощренную систему стихосложения — силлабическую в своей основе и сложно зарифмованную. Не зная древнеирландского языка, я переводил по подстрочникам, но при этом смотрел в оригинал и старался сколько можно сохранить звучание и формальную структуру стихов.
В заключение хочу процитировать сонет Джона Китса. Предварю его только одним примечанием: в самом начале у Китса, по-видимому, аллюзия на слова Филипа Сидни из его знаменитого трактата «Защита поэзии»: «Природа — бронзовый истукан, лишь поэты покрывают его позолотой».
Как много славных бардов золотят
Чертоги времени! Мне их творенья
И пищей были для воображенья,
И вечным, чистым кладезем отрад;
И часто этих важных теней ряд
Проходит предо мной в час вдохновенья,
Но в мысли ни разброда, ни смятенья
Они не вносят — только мир и лад.
Так звуки вечера в себя вбирают
И пенье птиц, и плеск, и шум лесной,
И благовеста гул над головой,
И чей-то оклик, что вдали витает...
И это все не дикий разнобой,
А стройную гармонию рождает.
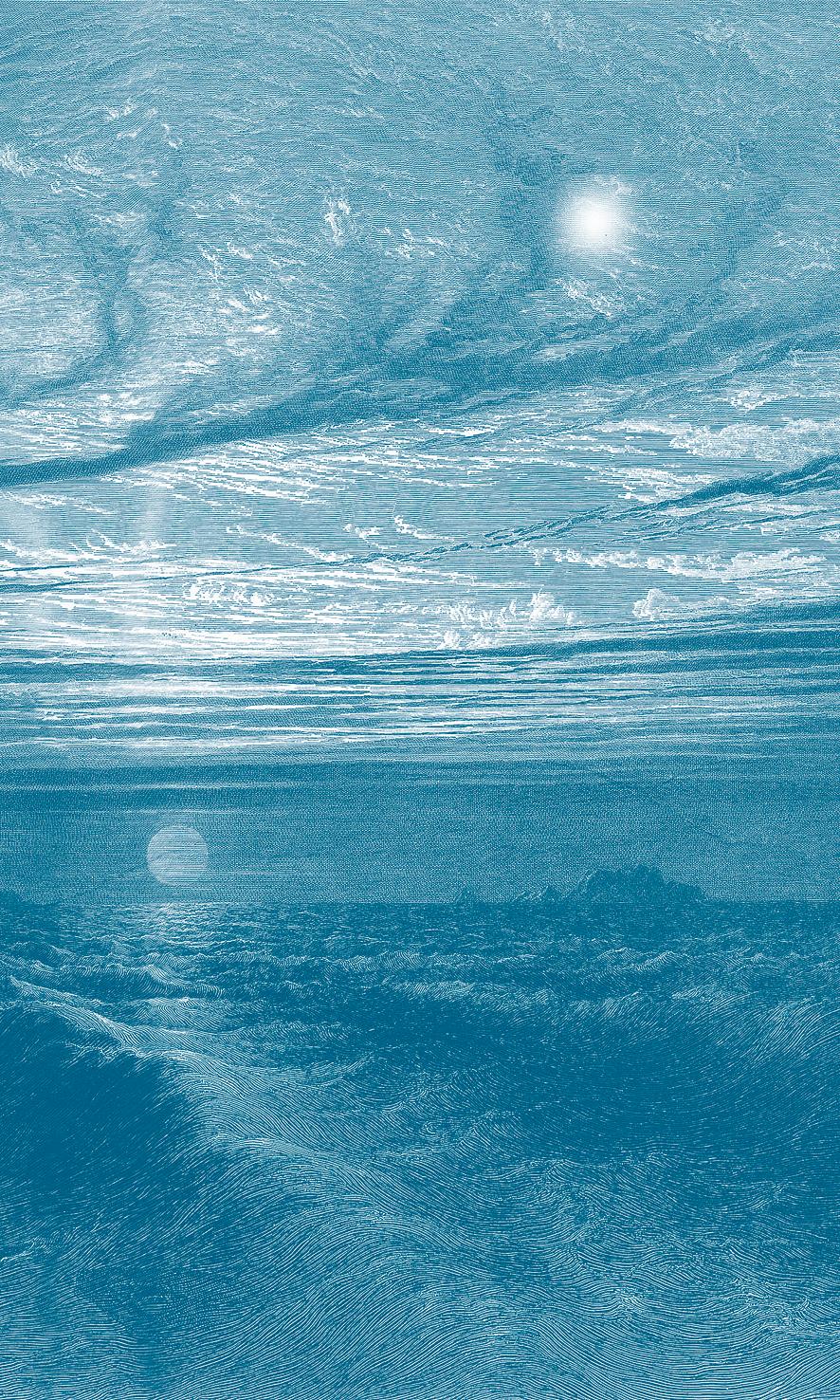
Из древнеирландской поэзии
Песнь Амергина
Я сохач — семи суков
Я родник — среди равнин
Я гроза — над глубиной
Я слеза — ночной травы
Я стервятник — на скале
Я репейник — на лугу
Я колдун — кто как не я
Создал солнце и луну?
Я копье — что ищет кровь
Я прибой — чей страшен рев
Я кабан — великих битв
Я заря — багровых туч
Я глагол — правдивых уст
Я лосось — бурливых волн
Я дитя — кто как не я
Смотрит из-под мертвых глыб?
Я родитель — всех скорбей
Поглотитель — всех надежд
Похититель — всех быков
Победитель — всех сердец
Монах и его кот
С белым Пангуром моим
вместе в келье мы сидим;
не докучно нам вдвоем:
всякий в ремесле своем.
Я прилежен к чтению,
книжному учению;
Пангур иначе учен,
он мышами увлечен.
Слаще в мире нет утех:
без печали, без помех
упражняться не спеша
в том, к чему лежит душа.
Всяк из нас в одном горазд:
зорок он — и я глазаст;
мудрено и мышь споймать,
мудрено и мысль понять.
Видит он, сощуря глаз,
под стеной мышиный лаз;
глаз мой видит в глубь строки:
бездны знаний глубоки.
Весел он, когда в прыжке
мышь настигнет в уголке;
весел я, как в сеть свою
суть премудру уловлю.
Можно днями напролет
жить без распрей и забот,
коли есть полезное
ремесло любезное.
Кот привык — и я привык
враждовать с врагами книг;
всяк из нас своим путем:
он — охотой, я — письмом.
Рука писать устала
Рука писать устала
писалом острым, новым;
что клюв его впивает,
то извергает словом.
Премудрости прибудет,
когда честно и чисто
на лист чернила лягут
из ягод остролиста.
Шлю в море книг безбрежно
прилежное писало
стяжать ума и блага;
рука писать устала.
Король и отшельник
Гуаири:
Отшельник Морбан, молви:
зачем бежишь из келий?
зачем ты спишь в лесу один
среди осин и елей?
Морбан:
Моя обитель в чаще,
несведущим незрима;
ее ограда с двух сторон —
орешня и рябина.
Столбы дверные — вереск,
а жимолость — завеса;
там по соседству дикий вепрь
гуляет среди леса.
Мала моя лачужка,
но есть в ней всё, что надо;
и с крыши песенка дрозда
ушам всегда отрада.
Там дни текут блаженно
в смиренье и покое;
пойдешь ли жить в жилье мое?
Житье мое такое:
Тис нетленный —
мой моленный
дом лесной;
дуб ветвистый,
многолистый —
сторож мой.
Яблок добрых,
алых, облых —
в куще рай;
мних безгрешен,
рву с орешин
урожай.
Из криницы
ток струится
(свеж, студен!);
вишней дикой,
земляникой
красен склон.
Велий заяц
вылезает
из куста;
скачут лани
по поляне —
лепота!
Бродят козы
без опаски
близ ручья;
барсучаты
полосаты
мне друзья.
А какие
всюду снеди —
сядь, пируй! —
сколько сочных
гроздий, зелий,
светлых струй!
Мед пчелиный
из дуплины
(Божья вещь!);
грибы в борах,
а в озерах
язь и лещ.
Все угодья
многоплодье
мне сулят,
терн да клюква
(рдяна, крупна!)
манят взгляд.
Коноплянка
тонко свищет
меж ветвей;
дятел долбит —
абы токмо
пошумней.
Пчел жужжанье,
кукованье,
гомон, гам:
до Самайна
не утихнуть
певунам.
Славки свищут,
пары ищут
допоздна;
ноша жизни
в эту пору
не грузна.
Ветер веет,
листья плещут,
шелестят;
струйным звоном
вторит в тон им
водопад!
Буря
Над долиной Лера — гром;
море выгнулось бугром;
это буря в бреги бьет,
лютым голосом ревет,
потрясая копием!
От Восхода ветер пал,
волны смял и растрепал;
мчит он, буйный, на Закат,
где валы во тьме кипят,
где огней дневных привал.
От Полунощи второй
пал на море ветер злой;
с гиком гонит он валы
вдаль, где кличут журавли
над полуденной волной.
От Заката ветер пал,
прямо в уши грянул шквал;
мчит он, шумный, на Восход,
где из бездны вод растет
Древо солнца, светоч ал.
От Полудня ветер пал;
остров Скит в волнах пропал;
пена белая летит
до вершины Калад-Нит,
в плащ одев уступы скал.
Волны клубом, смерч столбом;
дивен наш плывущий дом;
дивно страшен океан:
рвет кормило, дик и рьян,
кружит в омуте своем.
Скорбный сон, зловещий зрак!
Торжествует лютый враг;
кони Мананнана ржут,
ржут и гривами трясут;
в человеках — бледный страх.
Сыне Божий, Спас мой свят,
изведи из смертных врат;
укроти, Владыка Сил,
этой бури злобный пыл,
из пучин восставший Ад!
Думы изгнанника
Боже, как бы это дивно,
славно было —
волнам вверясь, возвратиться
в Эрин милый,
в Эларг, за горою Фойбне,
в ту долину —
слушать песню над Лох-Фойлом
лебедину;
в Порт-на-Ферг, где над заливом
утром ранним
войско чаек встретит лодку
ликованьем.
Много снес я на чужбине
скорбной муки;
много очи источили
слез в разлуке.
Трудный ты, о Тайновидец,
дал удел мне;
ввек бы не бывать ей, битве
при Кул-Дремне!
Там, на западе, за морем —
край родимый,
где блаженная обитель
сына Диммы,
где отрадой веет ветер
над дубравой,
где, вспорхнув на ветку, свищет
дрозд вертлявый,
где над дебрями Росс-Гренха
рев олений,
где кукушка окликает
дол весенний...
Три горчайших мне урона,
три потери:
отчина моя, Тир-Луйгдех,
Дурроу, Дерри.
Сказала старуха из берри,
когда дряхлость постигла ее
Как море в отлив, мелею;
меня изжелтила старость;
что погибающей — горе,
то пожирающей — сладость.
Мне имя — Буи из Берри;
прискорбны мои потери,
убоги мои лохмотья,
стара я душой и плотью.
А было —
до пят я наряд носила,
вкушала от яств обильных,
любила щедрых и сильных.
Вы, нынешние, — сребролюбы,
живете вы для наживы;
зато вы сердцами скупы
и языками болтливы.
А те, кого мы любили,
любовью нас оделяли,
они дарами дарили,
деяньями удивляли.
Скакали по полю кони,
как вихрь, неслись колесницы;
король отличал наградой
того, кто первым примчится!..
Уж тело мое иного
устало взыскует крова;
по знаку Божьего Сына
в дорогу оно готово.
Взгляните на эти руки,
корявые, словно сучья:
нехудо они умели
ласкать героев могучих.
Корявые, словно сучья, —
увы! им теперь негоже
по-прежнему обвиваться
вокруг молодцов пригожих.
Осталась от пива горечь,
от пира — одни объедки,
уныл мой охрипший голос,
и космы седые редки.
Пристало
им нищее покрывало —
взамен цветного убора
в иную, лучшую пору.
Я слышу, море бушует,
холодная буря дует;
ни знатного, ни бродягу
сегодня к себе не жду я.
За волнами всплески весел,
плывут они мимо, мимо...
Шумят камыши Атх-Альма
сурово и нелюдимо.
Увы мне! —
дрожу я в гавани зимней;
не плыть мне по теплым волнам,
в край юности нет пути мне.
О, время люто и злобно! —
в одеже и то ознобно;
такая стужа на сердце —
и в полдень не обогреться.
Такая на сердце холодь!
я словно гниющий желудь;
о, после утехи брачной
очнуться в часовне мрачной!
Ценою правого ока
я вечный надел купила;
ценою левого ока
я свой договор скрепила.
Бывало, я мед пивала
в пиру королей прекрасных;
пью ныне пустую пахту
среди старух безобразных.
Взгляните, на что похожа:
парша, лишаи по коже,
волосья седые — вроде
как мох на сухой колоде.
Прихлынет
прибой — и назад уйдет;
так все, что прилив приносит,
отлив с собой унесет.
Прихлынет
прибой — и отхлынет вспять;
я все повидала в мире,
мне нечего больше ждать.
Прихлынет
прибой — и вновь тишина;
я жажду тьмы и покоя,
насытилась всем сполна.
Когда бы знал сын Марии,
где ложе ему готовлю! —
немало гостей входило
под эту щедрую кровлю.
Сколь жалок
тварь бедная — человек!
он зрит лишь волну прилива,
отлива не зрит вовек.
Блаженна скала морская:
прилив ее приласкает,
отлив, обнажив, покинет —
и снова прилив прихлынет.
Лишь мне не дождаться, сирой,
большой воды — после малой,
что прежде приливом было,
отливом навеки стало.
Видение святой Иты
«Боже, об одном молю:
дай мне Сына твоего,
дай младенчика с небес,
чтобы нянчить мне его».
И сошел к ней Иисус,
чтоб утешилась жена,
как младенец к ней сошел,
и воскликнула она:
«Сыне на моей груди!
нету истины иной —
только ты, мое Дитя;
спи, младенец мой грудной.
Днем и ночью на груди
я лелею чистый свет,
сшедший в лоно молодой
иудейки в Назарет.
О младенец Иисус,
ты нам отдал жизнь свою,
и за то тебя, Господь,
сладким млеком я кормлю.
Славься, Божие дитя!
нету истины иной,
кроме Господа Христа;
спи, младенец мой грудной».
Монах в лесочке
Рад ограде я лесной,
за листвой свищет дрозд;
над тетрадкою моей
шум ветвей и гомон гнезд.
И кукушка в клобуке
вдалеке будит лес.
Боже, что за благодать —
здесь писать в тени древес!
Утраченная псалтырь
Сказал Маэль Ису:
О старая любовь моя,
так сладок вновь мне голос твой,
как в юности в стране Тир-Нейл,
где ложе я делил с тобой.
Была юницей светлой ты,
но мудрою не по годам;
я отрок семилетний был,
неловок, простодушен, прям.
Ни общий кров, ни долгий путь
нас, истовых, не осквернил:
безгрешным жаром я пылал,
блаженный я безумец был.
Всю Банбу мы прошли вдвоем,
не разлучаясь много лет;
дороже речи короля
бывал мне мудрый твой совет.
С тех пор спала ты с четырьмя;
но дивны божии дела:
ты возвратилася ко мне
такой же чистой, как была.
И вот ты вновь в моих руках,
устав от странствий и дорог;
не скрою, лик твой потемнел,
и пепел лет на кожу лег.
Я говорю тебе: привет!
Знай, без вины твой старый друг;
ты — упование мое,
спасенье от грядущих мук.
Хвала тебе — по всей земле,
стези твои — во все края;
впивая сладость слов твоих,
вовеки жив пребуду я.
Всем возлюбившим — речь твоя,
увещеванье и завет:
ты учишь, как Творца молить,
вседневный исполнять обет.
Ты разуменье мне даришь,
в душе искореняешь страх:
да отойду к Владыке Звезд,
земле оставив тленный прах!
О мыслях блуждающих
Мысли неподобные,
горе мне от вас;
где вас ветры злобные
носят всякий час?
От молитв бежите вы,
аки от ловца;
скачете, блажите вы
пред очьми Отца.
Сквозь леса пустынные,
стогны городов,
в сборища бесчинные,
в суету торгов;
В зрелища соблазные
(льстя себе утех),
в пропасти ужасные,
им же имя — грех;
Над морями реющи,
там, где нет стези,
ово на земле еще,
ово в небеси, —
Мечетесь, блуждаете
вдоль мирских дорог;
редко забредаете
на родной порог.
Хоть для удержания
сотвори тюрьму,
нет в вас прилежания
долгу своему.
Хоть вяжи вас вервием,
хоть бичом грози,
не сойдете, скверные,
с пагубной стези.
Не унять вас бранями,
не в подмогу пост:
скользки вы под дланями,
аки рыбий хвост!..
Ева
Я — Ева, подруга Адама,
я гнева Господня причина;
коснувшись запретного древа,
я чад своих неба лишила.
Была я владычицей сада,
но руки свои запятнала;
великий я грех совершила,
великая грянула кара.
Мне яблоко стало дороже
всемилости Божьей; за это
быть женам рассудка лишенным
вовек, до скончания света.
Не знали бы люди ни глада,
ни зимнего хлада, ни снега;
ни страха, ни черного ада
не ведали — если б не Ева!
Из английской поэзии
ТОМАС УАЙЕТТ
1503–1542
Уайетт учился в Кембридже, получил степень магистра. Обладая блестящими способностями, быстро сделал дипломатическую и придворную карьеру. В 1536 году по подозрению в любовной связи с королевой Анной Болейн подвергся аресту и едва избежал казни, постигшей не только королеву, но и ряд его близких друзей. Три года спустя был обвинен в изменнических сношениях с испанцами, но на суде сумел себя защитить. Умер в дороге от скоротечной лихорадки. Уайетт — важнейший английский поэт первой половины XVI века. Он впервые ввел в английскую поэзию итальянские формы стиха: сонет и терцины. При жизни стихи Уайетта не печатались, но оказали огромное влияние на его современников и последователей.
Влюбленный восхваляет прелестную ручку своей дамы
Ее рука
Нежна, мягка,
Но сколь властна она!
В ней, как раба,
Моя судьба
Навек заключена.
О, сколь персты
Ее чисты,
Изящны и круглы! —
Но сердце мне
Язвят оне,
Как острие стрелы.
Белей снегов
И облаков
Им цвет природой дан;
И всяк из них,
Жезлов драгих,
Жемчужиной венчан.
Да, я в плену,
Но не кляну
Прекрасной западни;
Так соизволь
Смягчить мне боль,
Любовь свою верни.
А коли нет
Пути от бед
Для сердца моего,
Не дли скорбей,
Сожми скорей
И задуши его!
Он рассказывает о тех, кто его покинул
Они меня обходят стороной —
Те, что, бывало, робкими шагами
Ко мне прокрадывались в час ночной,
Чтоб теплыми, дрожащими губами
Брать хлеб из рук моих, — клянусь богами,
Они меня дичатся и бегут,
Как лань бежит стремглав от ловчих пут.
Хвала фортуне, были времена
Иные: помню, после маскарада,
Еще от танцев разгорячена,
Под шорох с плеч скользнувшего наряда
Она ко мне прильнула, как дриада,
И так, целуя тыщу раз подряд,
Шептала тихо: «Милый мой, ты рад?»
То было наяву, а не во сне!
Но все переменилось ей в угоду:
Забвенье целиком досталось мне;
Себе она оставила свободу
Да ту забывчивость, что входит в моду.
Так мило разочлась со мной она;
Надеюсь, что воздастся ей сполна.
Noli me tangere [1]
Кто хочет, пусть охотится за ней,
За этой легконогой ланью белой;
Я уступаю вам — рискуйте смело,
Кому не жаль трудов своих и дней.
Порой, ее завидя меж ветвей,
И я застыну вдруг оторопело,
Рванусь вперед — но нет, пустое дело!
Сетями облака ловить верней.
Попробуйте и убедитесь сами,
Что только время сгубите свое;
На золотом ошейнике ее
Написано алмазными словами:
«Ловец лихой, не тронь меня, не рань:
Я не твоя, я цезарева лань».
Влюбленный призывает свое перо вспомнить обиды от немилосердной госпожи
Перо, встряхнись и поспеши,
Еще немного попиши
Для той, чье выжжено тавро
Железом в глубине души;
А там — уймись, мое перо!
Ты мне, как лекарь, вновь и вновь
Дурную сбрасывало кровь,
Болящему творя добро.
Но понял я: глуха любовь;
Угомонись, мое перо.
О, как ты сдерживало дрожь,
Листы измарывая сплошь! —
Довольно; это все старо.
Утраченного не вернешь;
Угомонись, мое перо.
С конька заезженного слазь,
Порви мучительную связь!
Иаков повредил бедро,
С прекрасным ангелом борясь;
Угомонись, мое перо.
Жалка отвергнутого роль;
К измене сердце приневоль —
Найти замену не хитро.
Тебя погубит эта боль;
Угомонись, мое перо.
Не надо, больше не пиши,
Не горячись и не спеши
За той, чьей выжжено тавро
Железом в глубине души;
Угомонись, мое перо.
[1] Не прикасайся ко мне (лат.). Согласно легенде, через триста лет после смерти Цезаря был пойман олень с алмазной надписью на шее: «Noli me tangere. Cesaris sum» («He тронь меня. Я принадлежу Цезарю»).

